Казарма

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
Орехово. Милое мое Орехово. Город, где я родилась, росла на воле, пошла в школу, прожила трудное военное время, откуда уехала в институт и куда вернулась, окончив его, где начала взрослую жизнь. Где была счастлива естественным счастьем детства, отрочества, юности и узнала первое и самое страшное в жизни горе - смерть брата. Где вышла замуж, родила дочь, похоронила родителей. Город, куда я приехала с внуком, провела его по главной улице, показала все, что мне там дорого. О котором давно думаю с нежностью и тоской, куда стремлюсь и с радостью приезжаю. Который теперь стал совсем другим. Многое там сметено, перестроено. Неузнаваемы не только отдельные уголки, но и целые улицы. Там, где был густонаселенный район, сейчас малолюдно, тихо. Наши крутовские казармы превратились в молодежные общежития, учреждения. А за Клязьмой, на месте "песочков" и зарослей ивняка, вырос новый город - многоэтажный, панельный, светлый (после красно-кирпичных казарм). Незнакомый и уже не мой. И все равно мне родной. Потому и хочется вспомнить то, чего уж нет или почти нет.
В "Орехово-Зуевской правде" пишут, что создается история городской партийной организации. Есть в тамошних архивах большие книги в твердых переплетах - подшивки местных газет (у меня самой были такие), - чем не летопись день за днем? Есть в городе краеведческий музей. Но вот быт, мелочи, особенно своеобразная жизнь бывших морозовских казарм (позже их называли общежитиями, а потом даже домами) вряд ли где подробно описаны. Постороннему это не удалось бы.
Мне повезло: я родилась и выросла в казарме. Проживала в ней 26 лет, пока не уехала в Воронеж. И до сих пор тоскую по родным местам, нашим лесам с запахом елей и папоротника, мхом под ногами, с кустами можжевельника и ковровыми полянками черники. Здесь другие леса, другие в них запахи, а черника и можжевельник вообще не растут.
В далеком-далеком детстве я мечтала стать путешественником, даже спросила как-то на уроке географии, бывают ли те, кто пишет учебники, в местах, которые они описывают. Учительница ответила - да. И это представилось мне высшим счастьем.
Вдоль насыпи железной дороги образовались горы из выгруженного из вагона какого-то светлого бесформенного камня. Мы с Людой ходили по этим глыбам, и воображение уносило нас в неведомые дали.
Наш город не был для нас интересен. Ничего примечательного в нем не было, жизнь текла не спешно, однообразно и даже скучно. Особой любви к нему мы, дети, не чувствовали. Жили и жили. Живописные окрестности - речку, лес - воспринимали как само собой разумеющееся. Хотелось чего-то нового. Вот и появлялись в мечтах дальние страны, необитаемые острова. В середине 30-х годов дома у нас зашел разговор о возможном переезде в Среднюю Азию. Видимо, там, где выращивали хлопок, предполагалось развитие текстильной промышленности, и опытные кадры нужны были в Узбекистане или Туркмении. И понеслись наши мечты туда. Арыки, абрикосы и яблоки на каждом шагу (а мы и яблок вдоволь не ели), виноград. Девочки - будущие подружки с косичками, мальчики в тюбетейках. Никаких пальто и валенок, все-все другое. Здорово! Душа рвалась вон! И лишь потом проявилась эта неразрывная связь с родным городом. А первый раз я почувствовала ее в эвакуации, во время войны. Мне было 14.
Войну мы поначалу восприняли как взрыв нашей однообразной жизни, страха не было. Нам ведь долго внушали, какие мы сильные и как быстро одолеем любого врага - "малой кровью, могучим ударом" (из песни того времени).
В июньский солнечный день слушали выступление Молотова, через несколько дней - обращение ("Братья и сестры...") Сталина, первые страшные сводки "От Советского информбюро" - бомбежки, отступления, окружения, падение украинских, белорусских, русских городов.
Война. А я еще в августе отдыхаю в пионерском лагере в деревне Островище, от маминого "медсантруда" (до этого два лета была от папиной работы в деревне Грибово, в Петушках, самые лучшие воспоминания - о природе и ощущении себя: моя мечта - побывать там). Вернулась в город, а он какой-то притихший, потерявший свои краски. Стоят ящики с песком, окна закрещены бумажными лентами, и люди неразговорчивые, тихие.
В сентябре учеба в школах не началась. Нашу 1-ю школу и соседнюю с ней, соединявшуюся переходом и забытым за ненадобностью. 14-ю школу отдали под госпиталь. Нас перевели в 8-ю, кировскую.
Война подступала. В бывшей котельной нашей казармы оборудовали бомбоубежище. Туда приходили люди из соседних домов в надежде на прочные стены и перекрытия морозовской постройки. Тревоги были нечасто. Протяжные фабричные гудки напряженно-спокойные голоса по радио: Граждане, воздушная тревога, воздушная тревога!" создавали атмосферу нервозности, обреченности. Но разрывов бомб мы не слышали, и многие (мы в том числе), спустившись раз в бомбоубежище, потом оставались дома. Я лежала в постели с мыслью - "Авось!"
Приближался праздник Октября. Немцы у самой Москвы. Папа работал на своем месте, помощником мастера ленторовничного цеха бумагопрядильной фабрики №2. Однажды вечером он сказал за ужином, что его зачислили в истребительный батальон. В случае немецкой оккупации отряд, набранный из коммунистов, должен был уйти в леса и вести партизанскую борьбу.
Мама, как медицинский работник, считалась мобилизованной и работала в госпитале в моей школе. Им объявили, что предстоит эвакуация на восток. Разрешили взять с собой детей - дошкольников и школьников. Откуда-то появились у нас ящики из свежих досок. Наверное, папа на фабрике раздобыл. Два больших, один чуть меньше. Собирались основательно. Уже стало ясно, что война - надолго.
Отпраздновали годовщину Октября. Прошел военный парад на Красной площади, с которого войска шли на передовые позиции совсем рядом с Москвой.
И сразу же после праздников, числа 9-го или 10-го ноября, отправив заранее свои ящики с надписью крупно "М.Н.Монина", поздно вечером в темноте (соблюдалась светомаскировка) мы пришли к своим вагонам-теплушкам, стоявшим у пакгауза на станции Орехово. Внутри - двухэтажные нары. Боря и я забрались наверх, разместили в головах корзину плетеную с едой на первый случай ("сухой паек"), чашки-тарелки, вилки-ложки и поехали в ту же ночь.
Первая разлука с домом, с городом. Сердечко заныло, закралась смутная тоска. Что будет? Сомнений в исходе войны не было - глупы еще были: мне 14. а Боре 10. Мама с нами. За папу особенно не волновались - он же спрячется в лесу вместе со всеми... в обиду себя не даст. А на душе неспокойно. Куда мы едем (куда нас везут), никто не знал. Ехали в тыл, подальше от немцев, от фронта. Короткие перегоны и долгие стоянки на больших станциях, на запасных путях среди множества таких же составов товарняка: на маленьких полустанках, а то и в открытой степи, продуваемой ветром и поземкой. Почему-то запомнилось Сасово, где-то около Рязани; Куйбышев - мост через Волгу, тогда говорили: самый большой, два с половиной километра; Чкалов - на вагонах и цистернах читали "Оренбург", чему удивилась: ведь городу присвоено имя Чкалова, почему же пишут по-старому? Тогда мне было понятнее все новое, старина казалась ушедшей навсегда. Понятие память, видимо, совсем отсутствовало.
Вагонная жизнь продолжалась почти месяц. Ехали медленно, но спокойно. Нас не бомбили. Привыкли к своему дому на колесах. Железные печки топили углем - топлива было вволю, в вагоне всегда было тепло, только под багажной полкой в головах за подушками нарастал иней - зима была суровой. Вечером зажигали коптилку, светильник военных лет: фитилек в пузырьке с керосином или другой какой-то горючей жидкостью. На своих местах поворачивались головой к центру, ноги - под багажную заиндевевшую полку, и, глядя на огонь - дверца печурки открыта для свободного выхода тепла, - на раскаленные угли, пели песни.
Молоденькие девчонки - сестрички, сестры в возрасте моей мамы (а маме 38 лет) и старше. Мужчины - вольнонаемные работники госпиталя. Рядом со мной спал сосед по казарме, с 3-го этажа. Василий Васильевич Марков, высокий, худой, сутулый, с остатками седых волос на блестящей лысине, может быть, ему было за 70. Его жена - медсестра, он - бухгалтер госпиталя.
Такой вот хор. Пели русские народные песни и обязательно "Рябину" и "Лучину". Они были созвучны нашему настроению - грустные, тоскливые. Получалось хорошо, красиво. Кто-то вел первым голосом, кто-то вторым. А кто-то просто слушал. Под стук колес, в темной обжитой теплушке, отвлеченные от дум о прошлом, настоящем и будущем. Только мы в вагоне, и песня. Только сей час. Мы все еще не знали, куда едем. Так коротали время вечером. А днем - опять стоянка среди составов, терпеливо ждущих своего часа разъехаться или медленно трогающихся, звеня буферами и сцеплениями, или уходящих на полном ходу, без остановки.
Выбегаем, наскоро одевшись, подышать воздухом, посмотреть на мир. Свободно перебираемся через площадки тамбуров, перелезаем под вагонами у самых колес - так проходим "строй" поездов, нисколько не боясь, что состав тронется: пока-то он даст гудок, пока содрогнется от первого рывка, даже если покатит, набирая ход, вполне можно сделать под вагонами два-три шага, перешагнуть через блестящий накатанный рельс - и ты уже в полной безопасности. Состав пошел своим путем, а мы своим. Как будто, так и надо. Привычное дело.
В начале декабря 1941 года мы прибыли в Актюбинск. Получили приказ: выгружаться. Нас ждали освобожденные для нас дома. Пустые комнаты, где кроме черной круглой "голландской" печки да стола ничего не было. Дощатый некрашеный пол. Выдали госпитальные матрацы, одеяла, подушки. Все разложили на полу, так и спали. Нас в комнате две семьи. Детей 5-6 человек, трое взрослых (у Шивагорновых - тоже соседи по казарме-муж и жена работают в госпитале).
Белые заснеженные улицы, розовые, голубые, зеленоватые дома, двухэтажные, штукатуренные. Двухэтажное здание школы занято нашим госпиталем. Свою школу, где будем учиться, еще не отыскали, не определились. Мне надо в 7-й, Боре - в 3-й.
Открыв дверцу "голландки", на угольках (опять топим каменным углем, госпиталь снабжает) варим манную кашу. Продукты получаем в госпитале. За молоком ходим на базар…
Город совсем не похож на наш. Высоких строений нет, тихо, малолюдно. Узкоглазые лица казахов. Ослики, верблюды в основном около рынка. На улице запах дыма и чего-то кислого.
Все взрослые целыми днями в госпитале, а мы томимся от неопределенности и безделья. Скучно. Валя Шивагорнова - на год старше меня - утешает: "Зато увидим степь весной, она вся будет в цветущих тюльпанах". А я этого не знала, но согласна, что ради такой картины стоит многое стерпеть. Надо устраиваться в школу. Завтра пойду...
Но тут (опять же из черной тарелки радио) - сообщение. От Советского информбюро" голосом Левитана немцев разгромили под Москвой. Не разбили, не отбросили, а раз-гро-ми-ли! Разгром! Наша первая победа. Радость, ликование, подъем, надежды, мечты.
Через несколько дней госпиталь, так и не развернувшись полностью, стал сворачиваться, грузиться в вагоны, и опять продолжилась наша жизнь на колесах. Теперь мы ехали в сторону дома, а куда - опять неизвестно.
Путь на запад был чуть короче по срокам, двигали нас быстрее. Недели через две мы оказались около Горького, Арзамас. Вымыли голову, а на волосах - белый налет. Сказали: такая жесткая вода. Павлово-на-Оке. Страшный мороз. Железнодорожные пути далеко от города. Стоянка неопределенно долгая, и мы, тепло укутавшись, идем в город. Провода провисли под тяжестью инея. Улочки частных деревянных домов за сугробами - других не видно. В магазинах покупаем на память ножи. Их здесь большой выбор. Я купила перочинный в форме туфельки. Он и сейчас лежит в письменном столе, я им часто пользуюсь.
В новогоднюю ночь мы оказываемся на окружной Московской дороге. Куда дальше? Ничего определенного не говорят.
В Павлово-на-Оке прошел слух, что нас завезли не в то Павлово, надо было в наше, рядом с Ореховом, в Павлово-Посад. Вполне могла произойти путаница.
Теперь здесь, почти в Москве, недалеко от дома волнение наше росло с каждой минутой. Поезд тронулся, мы едем. Куда? Где остановимся?
Домой, так хочется домой! Только домой! В родной город! В Орехово! Ну, что им стоит послать нас в Орехово, а не в Павлово. Домой! Лучше дома нет ничего.
А поезд едет в неизвестность. Никто не спит, ждем решения. Едем по нашей дороге - это мы поняли. В сторону Орехова, до него рукой подать. Неужели остановимся в Павлове? Заглядываем в темноту, поцарапав глазок в залепленных снегом маленьких оконцах верхних нар. те. кто внизу, приоткрывают дверь, чтобы заглянуть в щель...
Скоро, скоро все узнаем, скоро решится судьба. А поезд идет, не сбавляя хода, и Павлово - мимо! Проехали!
Ура! В Орехово! Домой! Ура! Ликованию не было конца до самой остановки на путях родного вокзала.
Так закончилось мое путешествие в дальние края. Так поняли, как много значат родной дом, родной город.
Дальше - холодные, голодные, страшные и долгие военные годы.
В школу со второго полугодия. Мама продолжала работать в госпитале, который расположился на прежнем месте. Папа опять на броне в своей фабрике, а истребительный отряд существовал в списках еще долго.
Холод - это нетопленные комнаты. Бездействует клуб на втором этаже, прежде он был надежным подспорьем в хозяйственных делах: чаю ли попить, обед приготовить, уборку сделать, детей искупать - кипяток всегда к услугам. Перестали регулярно топить печи - кинулись собирать доски, палки, исчезли лавочки, железные треноги и кирпичи с решеточками, на которых водружались горшки, чугунки, кастрюли, под ними разводился "костер".
Еда готовилась немудреная, всего одно блюдо, да и то, если было что сварить сегодня. Великое счастье сварить картошку. Мальчишки возраста Бори одно время повадились ездить в Войново, собирать ржаные колоски на убранном поле. Дома их вышелушивали, зерна долго варились, но все равно оставались твердыми. Их прокручивали через мясорубку, заливали водой и опять ставили на костер или в печь на много часов.
Достали старинные самовары, о которых забыли до войны, каждый обзавелся собственной трубой для вытяжки, и к ужину обязательно был кипяток. Иногда к нему - только маленький кусочек хлеба с примесью гороха или кукурузы, только принесенный из магазина и отделенный от пайки с расчетом, чтобы было, что поесть завтра утром и перед школой. Вместо сахара - соль.
Чаепитие проходило при "коптилке": в пузырьке с гарным маслом, оставшимся от бабушкиных лампадок, горел нитяной фитилек. Кругом темнота, на столе неверный источник света, большие тени от предметов и от нас.
По коридору из комнаты до кухни ходили с горящими лучинами, окрикали друг друга, чтобы не столкнуться, не пролить - не дай Бог! - драгоценную похлебку, не обжечь себя и другого кипятком.
Первые годы были совсем темные - жилые дома отключили от ТЭЦ, позже свет давали только вечером, и это уже было благо: светлые коридоры, уроки при электричестве. Печки топились, когда было топливо, а его не всегда подвозили. Вот и организовали поездки за торфом самих жителей. По очереди, по порядку комнат. Кто не мог - менялся с соседом, но отработать нужно было непременно. За этим следил наш комендант.
У нас в семье очередь справляла я. Родители на работе. Боря еще мал. Была такая тележка - большие санки. Человек 6-8 впрягались в нее, как бурлаки, и ехали рано утром на болото. Довольно далеко от дома, километров 5 или 7, а может быть, и 10. Там нам показывали участок, откуда можно брать торф. Откапывали его (отдирали) от занесенных снегом, смерзшихся штабелей, набирали полные сани. Обратный путь давался труднее.
Складывали в общий сарай. Дальше уже было дело истопника - принести, затопить печь. Печь-то с утра затопят, а сырой, мерзлый торф не хочет гореть. Он долго тлеет и дымит без огня. Попробуй что-нибудь приготовь в такой печке. Поставишь горшок с тем же ржаным зерном - пусть стоит, сколько хочет. Согреется еле-еле, рука терпит, а дымом пропахнет сильно.
"Костры" все-таки надежнее, еда поспевала вовремя. Нужно было только иметь запас топлива. Эту заботу в основном брал на себя Боря. Найдет, принесет, нарубит. Мне оставалось только помельчить, подкладывая в огонь.
Когда были сожжены все окрестные заборы и не везло со случайными дощечками, шли в лес (в основном стайка девчонок). Набирали вязанку "палочек" и сухих веток сосны, других деревьев. Не толстых, не тонких, знали, что удобнее для наших костров. Иногда случалось найти на дороге кусок-другой торфяного брикета, упавшего с нагруженной машины. (Торфобрикетный завод построили перед войной напротив Крутовского полустанка за железной линией). Брикет - это спрессованная, чем-то пропитанная торфяная даже не крошка, а пыль. Длиной он сантиметров 20, высотой около трех, с закругленными боками, со специфическим резким торфяным запахом. Брикет всегда был сухой и давал много тепла.
Холод - это и старая изношенная одежда, из которой мы вырастали, и ее нечем было заменить. Летом носили веревочные тапочки - мама вязала их крючком сама. Зимой - ватные сапоги-бахилы. Предприимчивые люди наладили их производство, продавали на базаре, обменивали на продукты. Носили их с калошами.
Добро из бабушкиного сундука, остатки маминого приданого менялись на картошку, крупу, масло. Уплыли отрезы, постельное белье, скатерти, пропахшие нафталином. Ничего не осталось. На выпускной вечер в школу я пошла в платье Руфы Ильиной (ее мама была портнихой, шила людям за продукты и за деньги). В театр ходила в мамином жакете, давно не новом и явно мне не по плечу. И в институт поехала в пальто, сделанном в последнюю зиму перед войной в ателье напротив "Зари" в Зуеве по взрослому фасону из перелицованного тяжелого драпа, притом на вырост. Как я его ненавидела! И только на III курсе у меня появилось нормальное, из дешевого материала, но по мне. В школу бегала в какой-то папиной (наверное, времен его молодости) курточке, долежавшей до того времени в сундуке. Серый каракулевый воротник я закалывала булавкой, получалось что-то вроде стойки, и я казалась себе старинной девочкой, вроде гимназистки из пьесы "Голубое и розовое". Очень себе нравилась.
Боря ходил в длинном зимнем пальто Сережи Сафонова, двоюродного брата. Тогда он уже был летчиком, работал инструктором в аэроклубе где-то на Кавказе. Его детское пальто тоже дождалось своего часа.
Голод - это карточки на хлеб и на продукты. По категориям: рабочая, служащая, детская: иждивенца. Самая большая норма - у рабочих, были преимущества у детей до 10 лет. Меньше всех давали, конечно, иждивенцам - школьникам, старикам. По рабочей карточке получали хлеба 600 граммов в день, по иждивенческой - 300. Длинные-длинные очереди за хлебом. Магазин набит битком голодными людьми. А хлеб еще печется, его еще не привезли. Стояли с утра до вечера. И дождались. Хлеб с примесью жмыха, гороха, кукурузы, картошки - когда с чем. Горячий, влажный, тяжелый. В очередях в основном старики и дети. Временами кроме хлеба с солью и кипятка, никакой еды не было. Тогда собирали что-нибудь из "вещей" и ехали менять их на картошку в окрестных деревнях. Одну такую поездку совершила и я вместе с мамой и двоюродной сестрой Аней. Ехали сначала по узкоколейке в сторону торфоразработок, потом пришли пешком в Карабаново. Заходили в дома, торговались - за что сколько. Вернулись не пустыми.
Весной открывала картофельную яму тетя Марфуша из Маркова. Два-три ведра картошки доставались нам. Папа ездил туда, привозил. Тетя Марфуша предлагала не всегда охотно, чаще с оговорками: хватит ли самим на посадку, на еду, но гордости отказаться от такого "подарка" не было, к тому же и Марфуша, видно, считала себя нашим должником: дружили мы еще с довоенных времен - она лечилась в больнице, где работала мама, потом она и ее сестра, муж сестры - всех их я помню - останавливались у нас, когда приезжали продавать молоко на Крутовском базаре. Тетя Марфуша с детьми (было их двое или трое) жила у нас после пожара. Мама хлопотала о врачах, когда кто-то из ее детей болел. После войны папа помогал писать запросы в военкомат по поводу пропавшего без вести дяди Леши, ее мужа... Ну, в общем, выручала нас эта картошка, поддерживала в самое трудное весеннее время. Потом от госпиталя выделили огороды, сначала - за торфобрикетным заводом, а потом - в Войнове. На болоте картошка была плохая. Зато в Войнове, на высоком берегу Клязьмы целина уродила на славу - ели вволю, радовались. Но запасы эти к весне иссякли, и опять ломали голову: что продать, что повезти на обмен.
"Менять" ездили и далеко. Боря дважды ездил в Воронежскую область. Один раз совсем неудачно: отобрали все добро ребята постарше, такие же голодные и холодные пацаны. В другой раз привез пшено, масло - ужасно этим гордился. Ездил он, конечно, не один, а с ватагой своих сверстников. А было ему 12-13 лет. Мама ездила раз поездом куда-то на Волгу с тетей Нюрой Терехиной, другой раз - в Муром по большаку, кажется, ранней весной, с санками. И еще, когда без нее умер дядя Ваня, брат...
После 8-го класса в летние каникулы пришлось работать на одеяльной фабрике, иначе лишали карточки. Нас было много, таких девчонок - чуть старше, чуть младше. Работали мы моталками, а если правильно, мотальшицами: перематывали пряжу с бобин в пасмы. Не знаю, зачем. Сколько часов? Не помню, наверное, неполный день. Но все равно было очень трудно. Теплая, влажная духота, запахи хлопка (тюки его лежали рядом на складе), пряжи, шум ткацких станков, стоявших следом за нашими мотальными машинами. Сами машины примитивные, ручные: мы сами их вращали.
Выйдешь, после смены на улицу - не надышишься.
После 9-го класса меня взяла в городской пионерский лагерь Клавдия Семеновна Суворова, наша учительница физики. Она была там начальником. Родители ее жили в соседней с нами комнате, она знала меня с рождения. Так, что взяла "по знакомству" на хлебное местечко... Тут уж было и сытно, и нетрудно. Основная забота - считать все время детей, чтобы ни один не потерялся. Время проводили в городском парке в Орехове, а питались в нашей Кировской школе на Крутом. Три раза в день ходили парами туда-обратно.
За работу на "одеялке" давали рабочую карточку, платили немного денег. В лагерь мы свою (индивидуальную) карточку сдавали, денег, кажется, не платили, наверное, их вычитали за питание. Ну, и слава Богу, мы были сыты и довольны.
Страх. У нас в семье не было фронтовиков-мужчин. Но двоюродные сестры, Валя Монина, дочь папиного брата, и Зина Сафонова, дочь маминого брата, ушли на войну добровольно медсестрами. Обе нашли и потеряли там своих мужей, родили: Валя - дочь, Зина - сына, вырастили их, получая по аттестату за мужей помощь от государства. Обе потом вышли замуж вторично.
Были на фронте мой двоюродный брат Павлик (Павел Павлович) и ставшая потом его женой Тамара. Павел после войны долго оставался в армии вольнонаемным, жили они в Ровно. Приехали в Орехово, работал снабженцем на комбинате, потом на другом предприятии, но и пенсионером не знал ни одного дня отдыха, кроме отпусков. Его не стало (18.03.90 г.). Инфаркт, инсульт, гангрена. Похоронили его в одной могиле с дедушкой Гаврилом Николаевичем.
Тамара Алексеевна до пенсии и после работала в больнице. Потом осталась одна в трехкомнатной квартире. Хорошо, что рядом живут дочь с мужем и внук.
Приходили известия о гибели ребят из нашей казармы. Пропала без вести где-то в партизанах Лида Шивагорнова, пропал Слава Ломтев. Погибли Шурик Максимов под Лиепаей, Борис Воробьев, старший Лобцов (Лера). Погибли отец Руфы Ильиной, дядя Ваня, Леонид Челноков.
Как-то весной военкомат поручил нам разносить повестки со страшными вестями - "похоронками" на погибших солдат. Помню маленькую старушку в бедной комнате "у Мороза", плохо одетую, еле передвигавшую ноги. Наверное, погиб сын... Как она доживала свой век?
Через Орехово везли ленинградцев после блокады. Говорили: страшно смотреть. На кладбище появились холмики с краснозвездными пирамидами - умирали в госпиталях раненые. По радио сообщали о душегубках, расстрелах, казнях, угонах в Германию. Когда же конец? Когда перестанем ждать новых страшных вестей? Когда перестанет "сосать" желудок и не будем думать о еде? Когда снимем темную штору и смоем бумажные кресты?
В школе учимся трое-четверо по одному учебнику. Вместо тетрадей пишем на чем попало, перо цепляется за щепки серой оберточной бумаги. На большой перемене дежурный приносит на всех по маленькому кусочку клейкого теплого хлеба с горкой сахарного песка на нем. Вкусно - невероятно!
Мимо хлебозавода пройти и сладко, и больно. Исходишь слюной от этого вкуснейшего на свете запаха.
Особенно трудными были первые две зимы, во всех отношениях. Когда радио и газеты стали приносить хорошие вести, легче стало на душе. Хотя мы по-прежнему были чаще всего и холодными, и голодными.
А для меня всходило солнце - театр.
Из эвакуации возвращался Московский театр имени М. Н. Ермоловой. Здание в Москве разрушено бомбежкой, и временно театр обосновался в Орехове.
У нас пустовал театр, построенный еще Саввой Морозовым с участием Шехтеля. Своей труппы не было. Вот это помещение Зимнего (как его называли) театра и заняли ермоловцы, игравшие у нас целый год.
И еще один прекрасный коллектив - Ленинградский новый ТЮЗ.
Все труппы были сильные, спектакли интересные. Много талантливых актеров. Редко какой спектакль смотрели один раз, некоторые знали чуть ли не наизусть по тексту. Были, конечно, и кумиры.
Тогда и заболела я театром, и эта "болезнь" определила мою жизнь.
Каким-то нюхом нашла я свой театроведческий факультет. Сначала услышала по радио - ИТИС. Мой институт?! Источников информации было мало, но все-таки и ко мне в руки попал "Справочник для поступающих в вузы". Государственный институт театрального искусства имени А.В.Луначарского. ГИТИС! Это он и есть, тот самый, о котором слышала по радио. И, театроведческий факультет - просто специально для меня. На актерский не решусь, смелости не хватит, хоть и очень, очень хочется. Попробовать себя раньше не могла, негде было. От бедности реальных жизненных ощущений так хотелось прожить много других жизней. Это ведь дано актеру. Мои двойники в мечтах - Надежда Дурова, Катерина из "Грозы", "Бедная невеста" Марья Андреевна, Варя из пьесы Симонова "Парень из нашего города", подлинная Зоя Космодемьянская, чеховские Ирина, Соня, Раневская. Так и не сделала я к ним ни одного шага. Не осмелилась. Значит, это было не для меня.
Ухватилась за театроведческий. Готовит специалистов по истории и теории театра, заведующих литературной частью, музейных работников. Тут уж можно за что-то спрятаться, не выставлять себя напоказ. Это мое.
Но и туда пошла не сразу, так страшно было поступиться. Съездила вместе с подружками из класса в институт тонкой химической технологии - химию я не знала, и знать не хотела. С кем-то за компанию побывала в институте связи - не учат ли там на дикторов? Нет, институт инженерный.
Постояла на лестничной площадке Полиграфического института, там запустение, вроде ремонт, даже приемную комиссию не нашла. А редакторская работа была бы приемлема на худой конец. Но только на худой. А тут решалась судьба, будущее. Так я сказала себе: будь, что будет! Пусть все как во сне. Ничего не боюсь!
И приехала на Арбатскую площадь, нашла Собиновский переулок и подала заявление на театроведческий факультет.
А потом стала студенткой, в чем помогли мне моя наивная и горячая любовь к театру, книга К.С.Станиславского "Моя жизнь в искусстве" и счастливая встреча с Зоей Владимировной Фельдман, руководителем наших консультаций, моей первой наставницей, ставшей потом покровительницей и другом. Через 30 лет она помогла при поступлении в ГИТИС и моей дочери.
Пять лет в Москве, а Орехово - в ста километрах. Как магнит. Не представляю, как бы я прожила эти годы, если бы не было возможности каждый выходной приезжать домой, к своим стенам и вещам, к родительскому теплу, а в каникулы - к Дубенке, "Мельнице", Клязьме, Трубочке. Будь все по-другому, не вынести бы суеты огромного города, жизни в общежитии сначала в Сетуни (на 1-м курсе), потом на Трифоновке (остальные четыре года).
Самый трудный, конечно, первый курс - первый послевоенный год. Совсем другая (после Орехова) жизнь. К голоду и холоду прибавился неуют. Два-три раза в неделю, а то и чаще, ходили в театр. Нужно было набирать багаж, чтобы найти тему своей семинарской работы и быть в курсе того, о чем писали сокурсники. Да и просто интересно было смотреть спектакль. Не пропускали любой возможности: были дешевые билеты в профкоме, официальные "отношения" с администратором с просьбой выделить места для студентов, покупали билеты "на ступеньки" во МХАТ. А иногда платили по 100 рублей за билет, покупали с рук у входа - только бы посмотреть легендарные "Три сестры", "Вишневый сад", "Дядю Ваню", "Враги" с Качаловым, Хмелевым, Тарасовой, Добронравовым. Не пропускали генеральных прогонов, просмотров - на них ходили с особой гордостью, сознавая свою причастность к делу.
Утром были лекции в тесных аудиториях, потом обед в консерваторской столовой - вход в нее рядом с подъездом Малого зала. Потом занятия в институтской библиотеке, чтение бесконечных пьес, подготовка к семинарам по общественным наукам. А вечером - театр.
К полуночи приезжали на Белорусский вокзал, отыскивали поезд на Звенигород, Одинцово, Кубинку, и он вез нас до рабочего поселка или Сетуни, паровичок с двухъярусными полками в вагонах. Фили, Кунцево были тогда пригородами Москвы, а Рабочий поселок и Сетунь - деревушками без дорог и света.
В осеннюю распутицу, в дождь и снег лезли по оврагам, по липкой глине, чтобы добраться до дома, снятого под общежитие. Общежитие - это одна большая комната, рассчитанная человек на 20, и небольшой тамбур - сени. В комнате обитала женская часть татарской студии, которую набрала О.И.Пыжова. Выделили там несколько коек для студентов других факультетов. Среди последних была я, и еще одна моя сокурсница из Саратова, которую отчислили после 1-го курса. Конечно, иногородних в институте было гораздо больше, но многие имели возможность снимать углы, комнаты, некоторых приютили родственники, знакомые. У меня же не было в столице ни родных, ни знакомых, а снимать жилье и в голову не приходило - у родителей не было на это денег.
В подсобном помещении стоял огромный самовар, которым ведала наша комендантша, по-доброму относившаяся ко всем нам. К вечеру был кипяток. Нормальные студенты пили горячий чай в ужин и к нашему приходу почти все спали.
Мы с Ириной являлись за полночь. Самовар был чуть теплый, еда, привезенная из дома (чаще всего это была мятая картошка в пол-литровых стеклянных банках) совсем ледяная, а иногда уже прокисшая.
И так недели, шесть дней московской круговерти. Суббота - самый прекрасный день - еду домой!
После лекций сразу на Курский. В одном из тупиков, каждый раз на новом месте, стоит петушинский поезд, тоже с паровозом. Поезда шли редко, а желающих уехать было много. Не помню случая, чтобы, придя к поезду, я нормально вошла в вагон и села на какое-то место. Часто удавалось лишь встать на ступеньку и ухватиться за поручень. Лишь бы уехать. Ведь следующего поезда нет смысла ждать: все равно будет такая же толчея, домой приедешь ночью, а несколько часов ожидания на вокзале, где не удается даже присесть, совсем испортят настроение. Поэтому цепляешься, за что придется - потом утрясемся, утрамбуемся, протиснемся. После Железнодорожной продвигались в проходы, но стоять по-прежнему приходилось впритык, руки по швам. Еще легче после Фрязева, Павлово-Посада, а уж к Орехову, Крутому можно было и посидеть.
Спрыгиваешь с высоких ступенек вагона и вдыхаешь полной грудью. После московских бензинных улиц и душного вагона воздух кажется просто необыкновенным, почти целебным. В нем естественные запахи земли, зелени деревьев, снега или дождя, мне мил даже запах дымка торфобрикетного завода.
Дома ждут и всегда рады. Никогда не видела сердитого взгляда, не слышала раздраженного злого слова.
Была ли у родителей тревога за меня в большом городе, среди чужих людей? Поздние дороги в общежитие, трудные поездки домой...
Может быть, они и не представляли всех обстоятельств моего бытия, но относились к этому просто, естественно. У всех ведь были свои трудности.
И все-таки я не выдержала напряжения новой жизни и общежитского быта. Показалось, что не смогу. Собрала чемодан с пожитками, привязала к нему подушку (она была собственная) и уехала домой. С каким-то очень поздним поездом. Потому что с вечера я так и не разобрала чемодан, оставив его вместе с подушкой посреди комнаты.
Утром окно оказалось открытым, то ли с вечера его не закрыли, то ли папа открыл спозаранку, когда рассвело. Только все мы еще в постелях услышали шум, а когда поднялись, увидели, что кто-то влез в окно, и чемодана с подушкой нет. Папа бросился к окну, закричал, потом выбежал на улицу, помчался за вором. Чемодан валялся на тротуаре через дорогу, папа его принес. А от меня все узнали, что я больше не поеду в институт, не хочу, не могу там жить.
Ну что ж! Никто меня не ругает, не уговаривает. Сама поступила - сама решай. Решаю, раскидываю умом. Как же так? Стремилась, рвалась, уже слушала лекции, там мои новые знакомые. Пройдут пять лет, будут театроведами Муся, Кира, Маша. А я? Нет, не могу и от них отделиться, отстать.
Через несколько дней опять собрала чемодан, взяла подушку и в очередной понедельник поехала в свое общежитие, в свой институт. Больше таких отчаянных порывов не было. Втянулась, вошла в колею. Но, может быть, и выдержала потому, что была у меня эта отдушина - Орехово, родной воздух, родной дом.
Дома можно расслабиться, отмыться, отоспаться, отогреться, поесть вволю - в выходной мама могла уже приготовить что-нибудь повкуснее, когда карточки отменили и жить стало легче. Но понедельник был тяжелым днем: очень рано надо вставать на поезд, часов в 5, начале 6-го. Заводила будильник, но редко когда он звонил: часто просыпалась, смотрела на часы, успевала отвести рычажок звонка, чтобы не тревожить всех.
На полустанок идешь в темноте, в разную погоду. Опять предательская мысль: выдержу ли? Ведь только первый, а впереди второй, третий, четвертый, пятый курс.
А ноги идут, судьба несет... И так все пять лет. Редкий выходной не приедешь, тогда уж следующего ждешь - не дождешься. Орехово было и духовным, и материальным подспорьем. Стипендии хватало только на две недели, две другие жила на деньги родителей.
Обратная дорога в Москву была хоть и неприятно ранней, но более удобной в другом смысле. Вагоны на Крутом еще не загружены, можно сесть у окна и поспать, уткнувшись в воротник пальто, притулившись головой к стенке. На Курском выходила несколько обалдевшая от сна. На первую лекцию я опаздывала. Гуляла по Арбату, выжидая время, чаще всего заглядывала в магазин изопродуктов, а в перемену потихоньку пробиралась в аудиторию так, чтоб не увидела наш строгий секретарь декана Роза Яковлевна Баянова, немолодая красивая женщина с карими бархатными глазами, ярко подведенными губами, рыжеволосая, всегда держащаяся с достоинством, завоевавшая себе цену. Бывшая артистка вспомогательного состава МХАТа. Мы ее боялись.
В Орехово ко мне приезжали подруги - мои однокурсницы и соседки по общежитию. Чаще всего Ина, с которой рядом мы поселились на Трифоновке, на 2-м курсе, и остались самыми близкими друзьями на всю жизнь. Ины уже нет четыре года. Ездили Маша (она и теперь мой нежный и любимый друг), Муся, Клава Андреева - режиссер с курса Завадского, болгарка Юля Огиянова, которой очень хотелось посмотреть, что ж это такое - средняя полоса России. Всех я водила в наш лес, в нашу баню, всем в доме находилось место для ночлега и еда.
Все студенты, ехавшие в понедельник в Москву, а в субботу домой в Орехово, старались сесть в один вагон. Это был условленный спонтанно, кажется, третий от хвоста. И ехали мы, как правило, без билетов. Когда нас много - контролеры нам нипочем, и они, действительно долго были к нам снисходительны: не выгонять же целый вагон, а брать-то что со студентов? Придут, посмотрят на нас и уходят.
В поезде мы досыпали, делились новостями, а еще пели. Хорошо, красиво. Гитар еще не было - без сопровождения, стихийно. Догорит свечка в фонаре, темно за окнами и в вагоне. А песня звучит, объединяет всех.
Так держало Орехово на короткой привязи все годы учебы. Каникулы само собой тоже дома. Ехать некуда, не на что. Да и не было это принято. Опять окрестные леса, книги. Борин велосипед. Один раз папа купил мне путевку в дом отдыха комбината, а моей подружке Мае на тот же срок (по уговору) путевку взяла ее мама, преподаватель текстильного техникума. И мы с Маей отдыхали две недели в Усаде, купались в реке Киржач (в одних названиях этих - древняя старина). Домом была школа, спали в классах. Чудесное время, хорошо нам там было.
В студенческие годы я старалась отмечать свой день рождения: ездила за цветами в Войново, готовила торт из кукурузных хлопьев, приглашала подруг.
Но вот институт позади. В районной газете "Большевистское слово" нашлась работа для молодого специалиста - театроведа. Ох, и трудно было входить в новую жизнь. В моем характере явно не доставало смелости, общительности, настырности (в хорошем смысле). А нужно постоянно встречаться с людьми, вступать в контакты, куда-то идти, ехать в поисках материала. Как я завидовала нашей кошке, лежавшей в уголке за шкафом! Но душа страшится, а голова работает, руки делают. Ехала, шла, писала. Клубы, заводы, школы, фабрики, общежития, комитеты комсомола, парткомы, колхозы, библиотеки - куда только не заносило литсотрудника отдела культуры и быта. Передовая статья, информация, "организованная" статья (за другой подписью), отчет о собрании, рецензия, тематическая страница, очерк на праздничную или будничную полосу - кажется, освоила все жанры, кроме фельетона.
Полюбила газетную работу, до сих пор считаю ее тем делом, которое мне было по плечу. Из меня мог бы выйти журналист.
Писать о жизни мне показалось интереснее, чем только о театре, и я не жалела о несостояшейся карьере театроведа.
Хотя профессиональный театр и большое искусство было со мной. В Орехове проходила декада искусств, нам показали "Вассу Железнову" - знаменитый спектакль Малого театра с В.Н.Пашенной, я брала у нее интервью в маленьком номере старой гостиницы у вокзала (которой теперь нет). Тогда же слушала симфонический оркестр, дирижер Вероника Дударова (теперь народная артистка СССР). Писала о других московских гастролерах. Но прямой постоянной моей обязанностью было освещение работы самодеятельности, в том числе и театральных коллективов, которые ждали и совета, и, главное, рецензий в газете. Лучше положительных, на отрицательные очень обижались.
В разных уголках района - Дрезне, Ликино-Дулеве, Демихове, Губине, на Верее, в Ожерелках - завязывались знакомства, дружба.
Много было и "неинтересной" работы: худые крыши, непорядки в торговле, разбитые тротуары, неосвещенные улицы, жалобы на врачей и благодарности им (последние шли в "обзор", который я почти всегда делала дома, так как в рабочее время не успевала). Были дежурства по выпуску номера в редакции, иногда в типографии. Влажные, пахнущие керосином полосы, только что набранные, еще теплые гранки. Редакционные будни, журналистская текучка.
Но судьба распорядилась иначе: вышла замуж, приехала в Воронеж. Попасть в газету больше не удалось.
Случилось то, чего в детстве мне очень хотелось: я уехала из Орехова. Вот уже тридцать лет живу в прекрасном городе Воронеже. Благодатный край. Культурные традиции. Театры, филармония, музей.
У меня хорошая квартира, садовый участок. Здесь дочку вырастила, внука выходила, они считают Воронеж своим родным. Здесь Женя отработал на своем экскваваторном положенный срок, теперь пенсионер. Я тоже пенсионерка, по состоянию здоровья пришлось оставить работу в 36 лет.
В газетах места не было. Райком партии предложил мне должность инспектора отдела культуры центрального райисполкома, но я с презрением отвергла ее, посчитав канцелярской. Много позже поняла, что сделала ошибку: там ведь я могла располагать информацией для газеты, это был бы мост. Но ждала дочку через запреты и опасения врачей. Думала о том, как справлюсь с ней и с собой в недалеком будущем.
Спустя 5 лет я оказалась на телевидении. В этот промежуток писала рецензии о кино, приносила в областную газету, писалось легко, получалось. Но со временем попасть туда стало совсем трудно - были свои авторы, друзья, знакомые.
Согласившись на режиссерскую группу, я считала, что мне повезло.
Новая работа никак не связана с журналистикой, с письменным столом, который меня всю жизнь притягивает. Но освоилась. Быть бы мне со временем режиссером (уже прошла стадию помощника режиссера и ассистента), в свое время выйти на пенсию с приличным содержанием, но приключилась болезнь, инвалидность.
Туда приезжала погостить к родителям. А еще оставались там две женщины, которые меня очень любили: Ревекка Яковлевна Марягина, Женина сестра. Оставались подружки. Я любила всех навещать, они всегда с радостью встречали меня.
Первые годы моего отсутствия Орехово оставалось прежним. Это потом его взрыли, снесли, перевернули, переиначили, построили заново. Теперь это уже другой город. Наверное, лучший по сравнению со старым, в нем удобнее жить. Другой, но все равно мой. Мое Орехово. Я его так же люблю. Я всегда туда хочу.
Орехово вытянулось вдоль двух изначально важных для любого города жизненных артерий, одна из которых естественная - река Клязьма, другая рукотворная - железная дорога, бывшая Горьковская. Между ними улица, ставшая главной, до революции - Никольская (так ее называла моя бабушка Федосья Алексеевна и изредка папа), а после революции естественно, переименовали в Ленинскую.
Были когда-то Орехово и местечко Никольское, точных географических границ которого я не знаю - это у железной дороги. И Зуево за рекой.
В Орехове и Зуеве были построены церкви, вблизи каждой - кладбище. Ореховскую церковь в конце 30-х годов сначала разорили, а потом взорвали. Зуевскую удалось сохранить, она действует по сей день.
Городом Орехово стали называть, оказывается, только в 1917 году. Мощный толчок к росту будущего города дало развитие текстильной промышленности в прошлом веке усилиями семьи Морозовых. Выросли свои, по-теперешнему можно сказать, микрорайоны, которые существовали довольно автономно.
Выстроились фабрики на пространстве между Клязьмой и железной дорогой, за ними рабочие казармы. Это - "у Викулы", одного из последних собственников мануфактуры. Наверное, это был район Никольского, который потом стал называться Крутое.
У Саввы, другого хозяина, по правую сторону железной дороги - свои фабрики, свои казармы, своя баня, своя больница и даже театр. Это все "у Мороза".
В Зуеве, на Подгорной - фабрика Зимина, промышленника и мецената, поклонника оперы. Там тоже свой мир. Фабрики Зимина были и в Дрезне - еще один текстильный городок.
Уже в 30-е годы на моей памяти появились Кировский поселок, примкнувший к крутовским казармам, термолитовый поселок в Зуеве...
Процесс разрастания шел постоянно в довоенные годы. А теперь начинаются прогулки по Орехову.
Вот оно, лоскутное одеяло моего родного города, такое, каким вижу его из дальних лет и теперешних воспоминаний.
Главной его частью для меня было, конечно, Крутое и кусочек Ленинской улицы, ее последний отрезок, если считать от вокзала. До этого отрезка фабрики, фабрики, фабрики. После него Кировский поселок.
Крутое, по моим понятиям, начиналось от деревообделочного завода и его склада на той стороне улицы, что ближе к реке. В ряд с ними перед войной фасадами на Ленинскую вытянулись два "стахановских" дома. Очевидно, жилье там получили лучшие работники, большинство - по комнате на семью, и квартиры сразу стали коммунальными, Рядом с ними торцами на улицу - два двухэтажных деревянных дома с дощатой обивкой. В одном из них жила моя одноклассница Нина Кудряшова с мамой - учительницей в школе для умственно отсталых детей и младшей сестренкой. У них была квартирка из двух крошечных смежных комнат, там все было, как игрушечное. В узком темном коридоре на керосинках готовили еду.
Следом за ними, немного дальше, от дороги, разместилась казарма - 10-я служащая. Там жила, выйдя замуж, моя школьная подружка Надя Курова (Надя Матвеева). Комнаты там были тоже небольшие, с выгороженной спаленкой, отчего получилась и маленькая прихожая. Как и во всех казармах - коридор, проход в кухню, печи (топившиеся внизу и дававшие тепло на два этажа в течение всего дня).
Печи топились, как деревенские "русские" печи, то есть с вечера в печь закладывалось топливо (обычно торф кусковой или брикетный). Рано утром часов в пять печь растапливала специальная кухарка. Жители готовили пищу на угольках, которые выгребались из печи, а часов в 10, когда печь догорала, угли загребали в правый угол и можно было в такой печи кипятить или, как мы говорили, топить молоко, печь пироги, варить каши и разогревать пищу.
После войны перед фасадом сами жители разбили красивый сквер: деревья были старые, а цветы сажали и за газонами ухаживали. Зимой в нем заливали каток, проводили освещение, кататься выходили и дети, и взрослые, играли в хоккей. Надин муж, Саша, был азартным хоккеистом.
Дальше по Ленинской, также чуть в глубине, но ближе к дороге, стоял добротный кирпичный дом, в котором поселилась интеллигенция: Селины, Хазовы, Шиповы, Балинские, Силантьевы, Барковы.
Папа моих одноклассников, Тани и Миши Селиных, был инженер, мама - учительница начальных классов в нашей школе. Их соседи Хазовы: он производственник, она - учительница немецкого языка, я у нее училась. С Надей, их дочерью, мы стали одноклассниками в войну. Шиповы - оба учителя, он математик, она в начальных классах. Прасковья Яковлевна Силантьева учила до 4-го класса Леню Марягина. В этом доме - настоящие просторные квартиры, высокие потолки. И два хода: "парадный" - с улицы, "черный" - со двора. Как нигде.
Дальше - 6-я служащая. Там, сколько себя помню, жили папины братья - мои дядя Павел и дядя Ваня с семьями. Свои последние семь лет там жили моя мама, которая переехала в комнату старшего брата Павла уже без папы, после расселения нашей 5-й служащей. Дядя Павел с тетей Настей получили квартиру на улице Урицкого вместе со своим сыном, моим двоюродным братом Павлом Павловичем. Это 3-этажное здание, кирпичное. Внизу продовольственный магазин, в котором выстояно столько очередей и до войны - то за пшеном, то за сахаром, то за маслом, и в войну - за карточными пайками и хлебом.
Через дорогу с левого края шестой служащей, ведущую к реке, опять казарма, последняя по Ленинской, а позади нее еще группа казарм, доходившая до самой Клязьмы. В одной из них родилась и жила до замужества моя мама с моей бабушкой. Между казармами - баня.
За 10-й служащей до войны на берегу Клязьмы построили школу, которая стала называться Кировской, в память о С.М.Кирове, незадолго до этого "злодейски убитом". Открыли ее в 1936 году. Туда перевели Людин класс из 14-й школы, туда пошла в первый Милка Черкасова, которая была на год младше меня. В войну, когда многие школы были отданы под госпитали, сюда приходили старшеклассницы со всего города - из Зуева, Орехова, с Ленинской "от Мороза". Там состоялся мой выпускной бал…
На пустыре перед школой построили детские ясли - два светлых розово-голубых корпуса в два этажа. В этом месте на реке издавна возводили временный летний мост, старые люди называли его "лавы". Без него нельзя было представить нашу жизнь: по нему бегали купаться на свои "песочки", ходили "за домики" и на "Мельницу", на огороды, которые нарезали для жителей нашей казармы на почти бесплодной песчаной земле, в основном там сажали картошку. Осенью мы бегали помогать уборке, жгли ботву. У нас там огорода не было, но я ходила с подружками. Оттуда дорога вела к "большаку", к черничным местам. Через лавы можно было пройти и в Зуево, если держать влево, и в Войново, если идти вправо дальше "Мельницы".
Если идти от фабрик на Крутое по правой стороне, то надо пройти мимо комбинатовской поликлиники (предвоенная постройка), на этом месте когда-то стоял небольшой деревянный домик - Борин детский сад, мимо детского сада, вдоль забора склада хлопчатобумажного комбината, занимавшего обширную территорию (которого сейчас тоже нет в помине, на его месте - высотные дома). В этом месте Ленинскую улицу пересекала железнодорожная ветка, соединявшая два склада - этот и деревообделочного завода.
Двухэтажный деревянный дом назывался "ящички". Коридорная система, опять крохотные комнатушки, рассчитанные, вероятно, на одиночек, но заселенные, конечно, семьями. Это совсем рядом с нашей казармой, и мы бегали сюда за кипятком, когда куб не топился по причине ремонта. Нас встречали не всегда приветливо, иной раз попадешь на сварливую тетку - оговорят, отругают, а то и вовсе прогонят: вас, мол, тут не хватает пачкать и лить воду. Это были неприятные хождения, поэтому всегда сначала узнаешь у тех, кто сходил раньше, как там: много ли народу, не ругаются ли. Если гонят, идешь в другое место.
Рядом с "ящичками" еще один деревянный дом, квартирный. В 30-х годах построили два "итеэровских" дома - "инженерский" и "технический" ("итеэр" - инженерно-технический работник, принятое в те годы сокращение). Первым был возведен "инженерский", с Ленинской его не было видно, он - во втором ряду, наискосок. Тыльной стороной он смотрел на наши балаганы, топливные сараи, волейбольную площадку. Из белого кирпича, 4-этажный. Квартиры заселяли одной семьей, но позднее и там образовались коммуналки. В основном жили специалисты комбината - инженеры, люди образованные. Детей они называли именами, какие среди нашей компании не встречались: Эмма, Ада, Сарра. В 1937 году в круговорот страшных событий из этого дома попало больше людей, чем из других.
"Технический" был попроще, подешевле, лестницы в подъездах, кроме одного (почему-то), деревянные, глухие.
От "инженерского" дома в сторону железнодорожного полотна раскинулась "Англичанка" (позже - улица Степана Терентьева). "Англичанкой" она была названа потому, что здесь жили настоящие англичане, которых фабриканты Морозовы приглашали работать на своих фабриках в качестве специалистов. Еще при Морозовых для них и были в этом месте построены дома. Один большой, двухэтажный - стоял за высоким плотным забором. Когда открывалась высокая сплошь из досок дверь калитки, просматривались густые зеленые заросли - сирень, акация. Высоченные стволы тополей раскидывали ветви в свободном небе, на них много грачиных гнезд. Говорят, что в этом доме жил управляющий фабриками с семьей. После революции англичане уехали к себе, и в 30-е годы в этом доме устроили детские ясли. Туда водили маленького Борю, а когда он болел и оставался дома, меня посылали туда за питанием, и я приносила полный обед, все было очень вкусным или казалось таким.
На остальном пространстве разместились еще с десяток двухэтажных деревянных домов, в них жили самые разные люди. Одно время - мамин брат дядя Ваня с женой и детьми, моими двоюродными сестрами Зиной и Аней и братом Сережей.
Улица была тихая, транспорт появлялся редко, детям привольно. Рядами расположились высокие тополя, в палисадниках густые шеренги сирени, желтой акации.
Из письма Люды (Людмила Ивановна Макаркина - любимый и верный друг с ранних лет. Долгая переписка с ней и ее пристрастная память дали много пищи моим записям): "С Васей посещаем Крутовский район частенько... Деревянные дома все подвергаются сожжению... сожгли несколько домов на "Англичанке", на Ленинской, на Крутом "ящички", два дома между "стахановским" и 10-й служащей. Теперь спалили 10-ю служащую, осталась от нее большая печь с трубой. С Ленинской открылся вид на Кировскую школу". Позже: "Сейчас уже опять и школу не видно, и печи давно нет - стоит многоэтажный стандартный дом".
От Ленинской, перпендикуляром к ней, сразу за "техническим" домом шла улица Энгельса, небольшая, упиравшаяся в железнодорожное полотно. И в конце ее, слева, стояли две школы четвертая (впоследствии четырнадцатая) и первая. До 1936 года в них обучалось все школьное население Крутовского района. Четвертая школа была начальной, потом переводили в первую. Так был переведен наш первый "3-й" (всего было восемь "первых"), продолжать учебу отдали в школу №1, где мы и учились, пока не потеснила нас война.
Достопримечательностью Крутовского района была баня, самая большая и самая удобная в городе. Бани на Ленинской и "у Мороза" ни в какое сравнение с ней не шли.
Двухэтажное здание из красного кирпича такой же добротной постройки, как и казармы. Толстые стены, высокие потолки, чугунные лестницы - износа им не было. Баня стояла на берегу Клязьмы, недалеко от реки и использовала речную воду. Два входа в углублении боковых крыльев - в мужское (налево) и женское (направо) отделения. На втором этаже - касса. Коридорчик ведет в раздевалку, где снимали пальто. Проходишь в большой зал, весь уставленный широкими лавками, - ищешь место, чтобы раздеться совсем. В более ранние мои времена белье оставляли в кучках прямо на лавках. Банщицы следили за порядком. Позже поставили на лавки небольшие шкафчики под номерами. Раздевалку при входе ликвидировали - верхнюю одежду стали тоже вешать в шкаф. Приносили с собой замочки, специально для этого купленные. Ключики привязывали к ручке таза, чтобы не потерять. Забудешь замок - банщицы выручали, у них были запасные. Или знакомые, уходившие домой. Не найдешь - свяжешь петельки шкафа веревочкой. Потеряешь ключ - ищешь, ходишь по рядам, у кого такой же, как у тебя замок. Зал этот чуть ли не с футбольное поле. В моечное отделение, находившееся под ним и такое же большое, спускались по лестнице в неотапливаемом предбаннике. В парах воды и гуле вентиляторов мойки - опять ряды широких скамеек: две вместе - проход, две вместе - проход. Деревянные скамьи были позже заменены на каменные, проходы справа, слева, посередине - по всему периметру. У стен с боков - краны холодной и горячей воды. Если надо набрать воды - смотришь, где поменьше очередь, иногда идешь и к дальнему крану. По возможности стараешься занять место поближе.
Пол асфальтовый, черный (мокрый). На полу возле кранов и на лавках - стопки тазов - большие, маленькие, средние. Наличие дырок проверишь, посмотрев донышко на свет. Обычно было два "банных" дня в конце недели. В то время дни недели считали по номерам: первый, второй и т.д. Не было ни понедельников, ни вторников, ни тем более, воскресений (кому же воскресать, если Бога нет?) Один день назывался "выходной".
Все спешили вымыться, потому что следующие два дня в банях проходила стирка - в женском отделении стирали со своими тазами и корытами (приносили с собой), а в мужском - с тамошними. Всю неделю они хранились в специальной комнатушке, а в дни стирки их выставляли для пользования. Ребристые стиральные доски - кто их любил-приносил с собой.
Сухое белье при входе на лестничной площадке взвешивалось на больших напольных весах - платили за каждый килограмм. Бельевая корзина - большая, овальная с двумя полукруглыми ручками по бокам, к ним пришит широкий брезентовый ремень, который удобно держался на плечах, - корзина оказывалась за спиной. Эти же корзины служили мужчинам в их походах за грибами. Полную корзину грибов, как и выстиранного белья, принести было нелегко.
Стирать в баню ходили не каждую неделю. Уходили на 3, 4, 5 часов, а то и больше. Так как белье не замачивали дома, его приходилось стирать два раза. Потом два раза полоскать. Белье было разное - легкое (простыни, наволочки, рубашки) и тяжелое (брюки, спецовки), белое и темное - разложено и стирано по видам и сортам. Сколько раз надо сменить воду, сколько простоять, согнувшись над корытом. В духоте, среди паров. После стирки - вымыться самой с последними силами. Потом тащить корзину с мокрым бельем по лестнице вверх, где одеваются. Снова спуститься и уже тогда добираться до дома.
Мужчины, кто был свободен, приходили встречать, поджидали внизу под лестницей. Были это отец или взрослый сын. Тяжелую ношу от бани до дома несли они. Но это еще не конец. Белье нужно было подсинить. В коридоре ближе к кухне, где источник воды, на широком подоконнике в большом тазу (в котором нас купали в детстве, еще до того, как стали брать в баню), мама разводит синьку (воду принес папа). Операция закончена, вместе они идут в балаган вешать. Вот теперь все. Можно выпить чаю и отдохнуть.
Баня была важной частью обихода и большим удовольствием. В голову не приходило пропустить банный день. Ощущение "чисто" - "грязно" культивировалось в бане. Вдоволь воды: намоешься, наполоскаешься, не можешь остановиться. Не хочется уходить. Старались, чтобы кто-то другой потер тебе мочалкой спину. Если пришла без подружки, без мамы, ищешь знакомых или подходишь к соседке: "Давайте я вам потру, а вы мне", - обмениваемся услугами.
Наверху после мытья детей одевали в первую очередь, сажали на лавке, дав в утешение яблоко, печенье, конфетку. Надоело сидеть - бегали возле матери, боясь потерять ее из виду, - румяные, завернутые в косынки и чепчики.
Когда-то рядом с общим отделением была и небольшая парная, скамейки там располагались ярусами. Потом ее прикрыли. Рядом с парной был большой мокрый туалет.
Иногда случалось непредвиденное: вдруг "вставала" вода - горячая или холодная. Намыленные, недомытые, ждут, когда наладят. Для этого приходил слесарь - мужчина в полном рабочем одеянии с набором гаечных ключей в руках. Никого это не смущало.
Хуже, когда гас свет. Подымался гвалт, детские крики, плач. Затыкали уши пальцами.
Баня перед праздниками становилась ловушкой. Хоть и увеличивались дни мойки, но очереди выстраивались на улице и в течение дня становились чуть короче или намного длиннее. Нужно было выбрать момент, когда очередь поменьше. Спрашиваешь у себя в коридоре или по дороге - много ли народу, долго ли искали тазы.
Очередей не было у мужчин. Их меньше, да и мылись они быстрее, детей с собой малых не брали.
Вот мужчины идут в свою свободную баню и подсмеиваются над женщинами:
- И охота вам стоять? Пойдемте с нами!
Еще две достопримечательности Крутовского района - полустанок и рынок. Наш полустанок - деревянное (дощатое) строение - стоял на насыпи. Между ним и улицей, смотрящей на него, был большой ров. Летом он зарастал травой, одуванчиками. Зимой там, естественно, получались горки и лыжные трамплины - мы приезжали сюда кататься. Деревянный помост через ров переходил через боковые галерейки в здание полустанка и на площадку под навесом, у которой останавливались поезда. Касса находилась внутри, сразу за дверью. Деревянных платформ не хватало на все вагоны, приходилось с трудом карабкаться на высокие ступеньки.
На полустанке останавливались не все поезда, а только пригородные Петушинские - до Москвы и обратно. Крутовских жителей это устраивало, на главную станцию в Орехово редко кто ходил. С нашего полустанка уезжали летом грибники с большими бельевыми корзинами - в Усад, Покров, Омутище, Костерево. Ехали дачники в Войново - традиционное с дореволюционных времен. Отсюда я уехала в свой институт, сюда приезжала каждую субботу. Отсюда проводили Борю навсегда - мама до Орехова, папа до челябинского поезда на Казанском вокзале.
На Крутое приезжали из деревень продавать молоко, картошку. Рынок был тут же, рядом с полустанком. В покупателях недостатка не было. Привозили молоко в больших бидонах, литров на 10-12. Попутно прихватывали творог, сметану, яйца. Продавали молоко кружками из белой жести емкостью пол-литра. Потом - стеклянными пол-литровыми банками. Покупательницы наливали его в молочные (только для молока) ведерочки - у всех были похожие: жестяные цилиндрические, литра на три, не больше. Их покупали не в магазине, а с рук, у каких-нибудь умельцев. Крышек к ним не делали. Ручка из толстой проволоки на ушках. Прежде чем купить - молоко принято было пробовать: не кислое ли, нет ли какого привкуса. Молочницы наливали немножко в крышечку своего бидона, и женщины, отхлебнув глоток, сосредоточивали на нем свое внимание. Спрашивали - откуда. Войновских не жаловали, предпочитали из дальних деревень, с "болота": то ли молоко там было вкуснее, то ли люди совестливее.
Позже деревенские сообразили торговать не на рынке, а прямо в казармах. Оказалось, это всем удобно. Продавцы не стояли на морозе или жаре, а хозяйкам не нужно было убегать от дел и детей. Но эта форма торговли не поощрялась, а, наоборот, преследовалась. Продавцов гоняли - комендант или милиционер, делавшие специальный обход: ведь наносился ущерб казне - не заплачено за "место" в торговом ряду.
Освободив тяжелые бидоны и продав остальную снедь, деревенские женщины шли в окрестные магазины, покупали продукты, хлеб. Увозили их в мешках. В те годы и городские частенько ездили в Москву то за маслом, то за сахаром, детей брали с собой, чтобы получить лишнюю норму "в одни руки". А в деревне, видно, было еще хуже.
Кировский поселок - стройка 30-х годов. Название дано, конечно, в увековечение памяти С.М.Кирова. В обиходе всегда было это словосочетание - Кировский поселок. Много лет спустя я узнала, что улица, которая стала продолжением Ленинской и вокруг которой строились дома "поселка", она-то и называется улицей Кирова: от сквера Дворца культуры (по правую сторону), от дома с почтой в подвальчике, потом - от дома со сберкассой на месте рынка (слева) и дальше к лесу. С правой стороны фасады двухэтажных деревянных домов чередовались с 4- и 5-этажными из кирпича, универмагом, во второй шеренге дома стояли перпендикулярно к проезжей части. По левой стороне кирпичные дома фасадами обращены на проезжую часть.
Впрочем, Кировский поселок по сей день, кажется, наименее потерпевшая от переделок часть города. Позже он расстроился в сторону леса, ореховской заводи, появился холодильник и дома, для работающих там, построили дома на берегу реки.
Квартиры новых домов заселялись несколькими семьями. Одна комната - на семью. В кухне - три-четыре стола, свой у каждой хозяйки. Над столом полка, на ней кастрюли, сковородки, другой кухонный инвентарь. Дровяная плита, которую, оказывается, никто не хочет (или не может топить): надо иметь запас дров, торфа. На первых порах делали такие запасы, были для них сараи, а потом перестали. На плиту водрузили керосинки и примусы. Стоит прочный запах перегоревшего и пролитого керосина. Есть ванная комната, но ванной не пользуются: опять же - нет дров, да и проще сходить в баню, она недалеко. Комната становится складом хлама. Типичная коммунальная квартира. В такой жили мои тетя Маня и дядя Сережа. Кажется, поначалу это был кооператив. Крохотная комнатка метров 10-12, в ней они прожили до конца своих дней, так и не найдя лада с часто менявшимися непутевыми соседями. Кто-то пил, кто-то ругался по пустякам, а под конец одинокую тетю Маню просто обворовала очередная любительница спиртного.
На Кировском поселке был магазин №20, в обиходе просто "двадцатый". Настоящий универсальный: внизу - продукты, на втором этаже - промтовары. В подвальчике с одной стороны - овощи, с другой - хозяйственные товары. Замечательный был магазин - с просторными торговыми залами, многочисленными отделами, удобными витринами. В "двадцатом" было все: тетрадки, карандаши, чернила, заколки, ленты, брошки, игрушки, обувь, одежда, ткани, парфюмерия, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь.
От двадцатого магазина нужно пройти несколько деревянных домов, чтобы попасть в аптеку. Это уже казалось далеко. Посылали нас заказать лекарство или получить его, с другими мелкими поручениями - купить вату, термометр. Долго работали там одни и те фармацевты, а заведовал один и тот же человек - Скегин. Маленький, полный, с круглой лысой головой. Он был известен всему городу. Его сын Гриша сразу после школы попал на фронт и скоро был убит. Единственный сын. Успел только жениться на своей однокласснице, она родила дочь от него. Об этом тоже знали все - так бывает в небольших городах.
Дворец культуры примыкал к домам Кировского поселка и крутовским казармам - центр всей нашей культурной жизни до войны. Архитектурная постройка в стиле времени не имела никакой красивости. Громадный зрительный зал с ярусом, который назывался "второй", хотя первого не было. Просторный гардероб. Фойе небольшое с широкими окнами. Отдельный вход имела таинственная и притягательная клубная часть, там были билетные кассы, кабинеты администрации, комнаты для занятий кружков, библиотека.
В маленьком фойе второго яруса стояло чучело бурого медведя на задних лапах, с годами на наших глазах терявшего клочья своей коричневой шерсти. Этот отголосок прошлого стыдливо символизировал в углу богатство советских профсоюзов.
До войны был во Дворце популярный оперный коллектив, поставивший "Евгения Онегина". Значит, и оркестр был. Мы все ходили смотреть (еще не говорили - слушать). Татьяну пела Зоя Кузнецова из нашей казармы. Она потом стала учительницей, но петь не переставала, участвовала в концертах. Ее подруга Юля Вельтищева (тоже жила у нас) уехала в Москву и – говорят - пела в хоре театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Руководителем музыкальной студии уже в послевоенные годы был Сергей Никанорович Корсаков, его тоже знал весь город. До войны он преподавал в музыкальной школе. Своим первым учителем его называет Яков Флиер, известный музыкант, пианист. Сын Сергея Никаноровича, Борис, окончил консерваторию, стал скрипачом в оркестре Большого театра. Внук его Андрей - скрипач с мировым именем, лауреат международных конкурсов. И вышла на большую арену правнучка - Наталья Корсакова, недавно видела ее по телевидению.
Дети лучше других коллективов знали ТЮЗ. Руководил им энтузиаст художественной самодеятельности Н.С.Прохоров. Спектакль "Приключения Буратино" существовал несколько лет, меняя исполнителей. Наверное, не было моих сверстников, которые не посмотрели бы его и не один раз. Лису Алису играла наша соседка Люся Ломтева, мы ей завидовали и любовались. Хороший был спектакль, и Люся была талантливой девочкой. Она еще долго выступала в концертах с чтением детских стихов, подражая Рине Зеленой. Но во взрослой жизни стала она бухгалтером.
В ТЮЗ поступали и мы с Людой. С небольшой эстрады в фойе нужно было прочитать стихи. Люда, всегда очень застенчивая, не смогла преодолеть страха и не вышла на сцену. А я прочла. Помню до сих пор:
Сталин мой любимый,
Сталин мой родной,
Шлю тебе подарок,
Вождь наш дорогой.
Яблоко выращивал
Я у нас в саду.
Яблоко я выберу
И тебе пошлю.
Яблоко то красное,
Спелое, прекрасное,
Сочное, румяное,
Как заря багряное.
Я цветок выращивал,
Вырос он большой.
Я тебе его пошлю,
Сталин дорогой.
Специально, что ли, выучила на этот случай? Почему? Откуда? Может, из "Пионерской правды" или из учебника. Таких гимнов было много.
Бойкий голосок, хорошая дикция - приняли! Но я там не прижилась - растерялась сразу на уроке ритмики, что-то не так делала. И больше не пошла, может быть, из солидарности с Людой.
Театральные коллективы собирались, работали, распадались, возникали вновь. В конце 40-х годов театральный коллектив под руководством Н.С.Прохорова (ТЮЗа к тому времени уже не было) поставил к 150-летию со дня рождения А.С.Пушкина его драматические произведения - среди них были "Скупой рыцарь" и, кажется, "Русалка". В начале 50-х годов уже с новым коллективом другой энтузиаст самодеятельного искусства Иван Игнатьевич Логинов показал "На дне" Горького. Наша соседка А.П.Бахленкова играла Анну.
У меня есть фотография, на которой кружковцы сидят вокруг В.Н.Пашенной - встреча состоялась после спектакля "Васса Железнова", привезенного Малым театром и сыгранного на сцене нашего Дворца.
Во Дворец к нам приезжали московские артисты. Для детей - утренние спектакли и концерты, для взрослых - популярные мастера. Помню, как родители собирались на концерт Утесова. В послевоенные годы большая аудитория собиралась на лекции о международном положении, которые читали лекторы из Москвы. Очень любили М.М.Свердлова (брата Я.М.Свердлова). Мы с папой старались не пропускать таких лекций. Но чаще всего дети бегали во Дворец "на кино". На Кировском поселке был и медицинский центр - амбулатория. Небольшое здание вмещало все мыслимое здравоохранение: там принимали врачи всех специальностей, в том числе и педиатры. Детей лечила очень милая маленькая женщина с ласковым голосом и доброй улыбкой Адель Яковлевна. Она умела договариваться со своими несмышлеными капризными пациентами. Позже я узнала, что она - сестра известного эстрадного музыканта и композитора Александра Цфасмана, познакомилась с ее детьми Лялей (Далилой) и Суликом (Саулом) в пионерском лагере "Медсантруд", а еще позже - и с ее мужем Ш.М.Рывлиным, врачом-терапевтом, с ним работала моя мама, Ляля стала врачом, живет сейчас в Орехове, муж ее тоже врач. Про Сулика ничего не знаю. А Адель Яковлевна очень рано умерла, совсем молодой. Дети выучились уже без нее.
В амбулаторию меня привезли с обваренными коленками: (уронила чайник с кипятком возле куба). Здесь выдавали справки в пионерский лагерь и однажды мне сказали, чтобы я не занималась физкультурой, потому что у меня - порок сердца. Это было в ясный летний день, а мне показалось, что кругом стало темно, и я долго горько плакала. Думала, что скоро умру... Вот так просто - без больниц, без анализов, без рентгенов. Не родителям, а мне - порок сердца. Лечить ребенка? Ни-ни. Только физкультурой не заниматься. А это определило всю мою жизнь. Тогда же я скоро свыклась с этой мыслью и приспособилась к своим возможностям.
За последними домами Кировского поселка начинался лес: большие сосны, орешник, ветлы. Под ногами густая трава. Ответвилась от Клязьмы ореховская заводь - озерцо-болотце, пополнявшееся в половодье, заросшее осокой, кувшинками, но все-таки дававшее малышам возможность поплескаться в теплой воде. Левее - еще один мост через Клязьму, но в иной год его не возводили, тогда обходились одним Крутовским.
На другом берегу этот мост подходил к "мельнице". От завода немного вперед - и упрешься в высокую насыпь железной дороги. Это часть ветки Москва - Александров, идущей от нас на Киржач. Ее звали киржацкой дорогой, или - более старое название в просторечье - гусляцкой. Сам поезд, ходивший очень редко (раза два в сутки), звали "гусляк". Мост через Клязьму (железнодорожный) тоже назвали киржацким. Насыпь с колеей (была одноколейка) и мостом как бы отсекали Орехово, служили восточной границей города. Дальше шло Войново, леса, звавшиеся "за мельницей", - уже не освоенный нами для повседневной жизни мир.
Отделив Орехово от остального мира с востока, пойду опять "от печки", то есть от центра моего детского мироздания, Крутого, в обратную сторону, на запад. По Ленинской улице. Этот маршрут был исхожен, знаком до последнего камня, и хотя автобус соединял Крутое с Ореховом, мы редко им пользовались. Собирались вдвоем-втроем и шли в Орехово пешком за какой-нибудь небольшой покупкой, а летом в каникулы часто наведывались в книжный, узнать, нет ли учебников для следующего класса. С интересом листали их тут же или по дороге - непременно новые, пахнущие краской. Покупали цветные карандаши в больших коробках (несколько оттенков одного цвета), дорогой подарок, тоже с необыкновенным запахом деревянной оболочки и самого стержня.
То вдруг узнаешь от соседей, что в "подвальчике" есть вкусная хамса. Просишь у мамы деньги и сразу в коридор или на улицу искать попутчика. Вместе веселее. Отправляешься в Орехово.
Миновали Крутое. Левее Ленинской остались вторая прядильная, одеялка. Вступили в коридор фабрик - шумный, с живыми картинками за окнами. Стучат ткацкие станки, и видно, как вытекает медленно белая широкая полоса рождающейся ткани. Подходит и склоняется над ней женщина в фартуке, в косынке. Что-то подправила - отошла. Монотонно гудят прядильные цеха. Длинные ряды машин, перематывающих пряжу. Пушистая ровница, разматываясь, ложится эластичными кругами в железные коробки. Большие ящики со шпулями подвозят мужчины.
После ОКФ - двухэтажное здание, где разместилась администрация Ореховского хлопчатобумажного комбината. С тыльной стороны получился еще один "двор" - Двор стачки, знаменитой Морозовской, 1885 года, вошедшей в историю революционной борьбы как одно из первых организованных выступлений рабочих. В центре - памятник Петру Моисеенко. руководителю стачки, там же он и захоронен. К стачке и памятнику всегда относились почтительно.
Со Двора - вход в управление. Там же размещалась техническая библиотека комбината, о которой я и понятия не имела, только много лет спустя узнала, что заведовала ею долгие годы Н.В.Поспелова.
Было там несколько магазинов, а неподалеку, если идти к железной дороге, совсем особенное предприятие - хлебозавод.
Опять вышли на Ленинскую. Деревянные дома, соединенные высоким забором из планок. Поворот во вторую советскую больницу. Больница - целый городок еще дореволюционных времен. В числе строений, вперемежку деревянных и кирпичных, большей частью двухэтажных, каждое из которых имело свое назначение (терапевтический корпус, кожный, гинекологический, лаборатория), был и роддом, где потом появилась на свет моя дочь.
Снова забор вдоль улицы, за ним в глубине два таинственных дома, куда нет свободного доступа. Во втором, кажется, детский туберкулезный санаторий. Густая зелень деревьев и кустов - оазис в центре города.
Высокая, добротная, незатейливая коробка почты. Внизу - подписка на газеты, продажа конвертов, отправка и получение посылок. В те времена наша семья посылок ни от кого не получала и сами не посылали - вся родня жила рядом. Посылки вошли в наш быт, когда я уехала в Воронеж. А на газеты папа подписывался регулярно. В доме всегда была "Правда" и городская "Колотушка" (потом "Большевик", "Орехово-Зуевская правда").
На третьем этаже здания почты была радиостудия. Метров 30 квадратных комната - стены в драпировках, на полу ковер. Окна наглухо закрыты, зашторены. У передней стены, где окна, микрофон на высокой стойке - прямая трансляция в эфир, о магнитофонах никто не слышал. Такой была студия до войны. Несколько раз здесь выступал детский хор нашей казармы, в котором и я пела.
В войну нас пригласили с литературной композицией - уже из школы (9-й класс, наверное). Я читала "Прозаседавшиеся" Маяковского. В годы работы в "Орехово-Зуевской правде" меня иногда просили за отсутствием по какой-либо причине штатного диктора прочитать обзор местной газеты или передовицу, или последние известия.
Рядом - кинотеатр, лучший в городе, где и фильмы идут новые, и звук хороший, - "Художественный". Здесь смотрелась вся довоенная кинопродукция. Мечта о мировой, счастливой жизни в трудные военные годы совмещалась с воспоминанием о добрых и светлых фильмах "Моя любовь", "Антон Иванович сердится", "Сердца четырех", и слышалась, знала, все обещала мелодия - "Все стало вокруг голубым и зеленым". На большом балконе над входом в кинотеатр в праздничные дни была гостевая трибуна. Лозунги и призывы произносились городскими руководителями с балкона Дома Советов - напротив, а отсюда только смотрели.
В другом крыле этого же здания открылся "Нарпит". Или фабрика-кухня. Это 30-е годы. Нарпит - народное питание? Наверное. Давали обеды на дом. Мои родители тоже пытались к нему приобщиться, но быстро отказались. В общем, эта идея с "народным" питанием быстро себя изжила. Обеды по-прежнему мама готовила дома сама. Были там столовая и ресторан.
Дальше - городской парк, горпарк. Много зелени, аттракционы. Танцы по вечерам под духовой оркестр. Среди молодежи случались и хулиганские выпады, так что мы, дети, горпарка немного побаивались, заходили туда только днем и то ненадолго.
Дальше - седьмая школа, вечерняя, в ней фильмотека, о чем извещала вывеска. Остальной отрезок - почти сплошь магазины: гастроном, по прозванию "серый" (его открыли в новом доме, имевшем серую облицовку), по-нашему он был "коммерческий" - там были лучшие товары и более высокие цены, "Детский мир", раймаг, обувной, рыбный, ювелирный. А между ними - Дом колхозника и банк, уцелевшие по сей день. Как и серый дом с гастрономом. Вместо мелких магазинов сейчас поликлиника для железнодорожников.
От ювелирного (ранее "торгсина", потом еще какого-то, потом "Тканей") - поворот на вокзал, мимо железнодорожного магазина, мимо гостиницы. Которых теперь тоже давно нет.
Ореховским вокзалом мы пользовались редко, нам всегда хватало Крутовского полустанка. Это сейчас я еду до Орехова, чтобы сразу пойти на кладбище (оно рядом) или сесть на автобус до Мониных (в Зуево), или к Люде (за первую советскую). А раньше всегда ездили с Крутого. Ну, а если на вокзал не сворачивать, а идти дальше прямо, то, пройдя фуражный магазин, придешь к Ореховской церкви, а еще чуть-чуть дальше - кладбище Ореховское. Для меня этот конец города был нелюбимым, я его боялась.
В церковь меня приводила бабушка. Приподняла над какой-то витриной, подержала и опустила на пол, высказав неодобрение. Оказывается, нужно было поцеловать икону, находившуюся под стеклом, а я этого не сделала. А еще меня напугал гроб - привезли отпевать покойника... Больше бабушка в церковь меня не брала. А на кладбище к дедушке изредка водила.
В этом-то безрадостном месте, между церковью и кладбищем, на пустыре, огороженном высоким забором, находился детский дом для сирот. Бедные сироты! Мне казалось, что там хуже тюрьмы, потому что рядом кладбище, каждый день похороны. Позже этот дом разрушили, слава Богу. Не стало и церкви - ее сначала закрыли, а потом разрушили постепенно вместе с верой в Бога.
На Ореховском кладбище сейчас в двух оградках похоронены все мои ореховские родственники: дедушка, бабушка Монины, дядя Сережа, тетя Маня, дядя Паня, тетя Настя. И мои родители. Недавно к ним присоединился Павлик Монин, его двоюродный брат. Павел Павлович. У кого стоит крест, у кого плита в ногах с надписью. Все они были крещеные, но не все верующие. Неверующим был папа, коммунист с 20-х годов.
Потеряв близких, я научилась спокойно посещать могилы. Даже чувствую потребность в этом. Но чувствую, и облегчение, уходя оттуда. Благодарный поклон, вечная память им, они всегда со мной, вернее, во мне. Но жить надо с живыми людьми и их заботами.
Если идти в Орехово с Крутого по правой стороне улицы, то среди коридора фабричных строений пройдешь мимо здания текстильного техникума. Здесь учился по вечерам папа, его окончила Люда. Здесь преподавала русский язык и литературу Шура. Александра Ивановна Андрианова. Это она привела меня к своим ученикам, и я впервые выступила перед большой аудиторией с лекцией-докладом "Горький и Художественный театр" (тема моей дипломной работы). Сама удивилась, что могу общаться с аудиторией, что чувствую себя свободно и уверенно, сидя за учительским столом, рассказываю, едва заглядывая в конспект, и что меня слушают с интересом и студенты, и сама Александра Ивановна, и ее коллеги, преподавательницы русского языка и истории.
От техникума - снова цеха фабричных служб и еще одна прядильная фабрика №1 имени Волкова, сподвижника Моисеенко. Незадолго до войны на этой фабрике был большой пожар. Случилось это летней ночью, но многие и даже мы, дети, поднялись с постелей и побежали смотреть. Зрелище страшное: из оконных проемов двух верхних этажей многоэтажного здания вылезали наружу желтые языки пламени. Белые стены покрыты черной копотью. Что-то рушится, летит вниз. Мы прибежали, когда огонь уже утихал. Постояли оторопело на Ленинской и ушли досыпать. Сгорели только верхние этажи. На нижних работали по-прежнему. Руины стояли несколько лет, потом все восстановили.
Такой же пожар, но меньшего масштаба, чуть позже произошел и на БПФ 2. Подозревали диверсантов. Кто знает? Могло быть и так. Могла быть провокация с целью оправдать репрессии, внушить подозрительность. А до эпохи гласности было далеко. На тротуар выходили окна казармы под названием "самомазка". Она была еще менее удобной, чем крутовские, гуще населена. Там часто случались скандалы, драки, о которых говорил весь город.
Через дом-другой торговый центр города - 1-й магазин, такой же многопрофильный, как наш 20-й. Дальше по Ленинской - бывший Дом профсоюзов. В войну в этом доме временно размещался "молодой" учительский институт, где по приглашению студентов выступал однажды Вл.Яхонтов. Я была на этом концерте. После войны ветхое это здание, основательно отремонтировав и перестроив, отдали детям, стало оно городским Домом пионеров.
Несколько деревянных построек (следом) занимали первые в городе детские ясли. Здесь начинала свою трудовую биографию моя мама: молоденькой, почти девочкой она определилась туда няней.
Рядом с яслями - небольшой сквер с чугунным заборчиком. Скамейки, клумба с фонтаном без воды, старые липы. В глубине - двухэтажный деревянный дом добротной постройки с высоким крыльцом.
Этот дом станет мне очень дорог, я буду там частым гостем, подружусь с людьми, которые войдут в мою жизнь, я стану их родственницей, выйду замуж за брата Александры Ивановны, с которым и познакомилась здесь, в этом доме 87 по улице Ленина.
Сейчас этого дома нет, на его месте начали строить новый Дворец культуры текстильщиков. В дальние довоенные годы я ничего не знала о его жильцах. К Щукиным в мои студенческие годы меня привела родная сестра Владимира Михайловича Надежда Михайловна, дочь которой Наташа поступила в ГИТИС два года спустя после меня.
Владимир Михайлович и Александра Ивановна занимали небольшую квартирку на первом этаже. В прихожей, кроме вешалки, старинный умывальник с мраморной плитой. Вода наливалась из ведра, сливалась в другое. Много позже подвели туда водопровод, а старинный умывальник заменили обыкновенной раковиной. Большим платяным шкафом от прихожей отгорожена спальня. Столовая заставлена старинной мебелью, над массивным столом низко свисает абажур с бисерными ниточками.
Щукины жили здесь с дореволюционных времен. Была большая семья, много детей. Глава ее Михаил Михайлович - врач. Он умер рано, его жена намного его пережила.
Владимир Михайлович был одним из напрасно пострадавших в годы сталинских репрессий 30-х годов. Из московских застенков он вернулся оправданным, восстановлен на работе. Но до конца жизни был на вторых ролях, подчиняясь профанам, недоучкам, человеческим ничтожествам. От него я никогда не слышала о том, что пришлось пережить.
Александра Ивановна, Шура (по паспорту она Андрианова) стала для меня одной из трех женщин, у которых я невольно училась жизни, набиралась ума-разума житейского, хозяйского, нравственного.
Первой была, конечно, мама. От нее у меня любовь к дому, к детям, аккуратность, стремление к порядку, чистоте. Все то, без чего я - это не я. Впрочем, это было и у Ревекки Яковлевны, и у Шуры.
Ревекка Яковлевна, мама Рика, как называла ее моя дочь, а следом за ней и я, после мамы - самый близкий мне человек. С ней я познакомилась в редакции газеты "Большевистское слово". С первых дней знакомства она относилась ко мне как к дочери (у нее был сын, а ей всегда хотелось еще и дочку). Столько тепла она мне дарила: заботилась, как я выгляжу, во что одета, целый день возила меня по московским магазинам в поисках пальто или туфель, шляпки или шарфика.
В доме Щукиных веяло стариной. Старый дом, старинные вещи, старинные люди. Культ дружеского теплого застолья. С удовольствием - не в спешке здесь накрывали на стол, красиво подавали еду. В этом участвовала не только хозяйка, но и хозяин. Помогали гости. Все спокойно. Никто не спешит, никто не раздражен.
Расписной фонарь высоко под потолком в маленьком коридорчике при входе. Свет низко склоненной настольной лампы над письменным столом под висячей резной полкой с томами Брокгауза и Эфрона. Стеллаж с книгами. Шкаф темного дерева для посуды, такой же для белья - низкие с резными дверцами. Картины с романтическими женщинами, морскими волнами в старинных темных широких рамках.
Жаль, что все это было так недолго. Низкий поклон дому 87.
Тут недалеко за углом, а если дворами, то наискосок - поворот на большой мост. Там за Клязьмой - Зуево. Но еще пойдем вперед по Ленинской в собственно Орехово. Опять деревянные двухэтажные дома, баня (Ореховская), сквер. В глубине сквера жилье 30-х годов - большой дом - сквозь штукатурку видна дранка с паклей. Квартиры - коммуналки, керосиновые кухни. Постройки идут вторым рядом, частично просматриваясь с тротуара главной улицы. Впереди жилых построек - Дом Советов.
Красно-кирпичное с белым здание в четыре этажа. Центр довоенного города. Здесь все главные учреждения, вся советская власть, как мы ее понимали. Про умных людей тогда говорили: "Не голова, а Дом Советов". Когда хотели найти на кого-то управу: "Вот пойду в Дом Советов". Потом это звучало и как шутка, но когда-то, видно, все было всерьез.
Здесь начинались моя трудовая жизнь. Окошко той небольшой довольно скучной и неуютной комнаты, где стояли три видавших виды письменных стола с чернильницами, регулярно пополнявшимися чернилами из бутылки, перьевыми ручками и пресс-папье (мой внук уже и не знает, что это такое), смотрит на Ленинскую с третьего этажа. Здесь я написала свою первую статью "Спектакль... без зрителя", о том, что смотр самодеятельности в Дрезне проходил при закрытых дверях. Здесь отработала три года, "пережив" четырех редакторов: А.И.Бершадского, А.С.Брызгалина, А.М.Леонтьеву и Г.А.Шеленкова. Настоящими газетчиками были А.И.Бершадский и А.С.Брызгалин, а журналистом, который мог научить и направить, редактором и организатором - только первый.
У А.С.Брызгалина было заочное прозвище "баламут" из-за его неуравновешенного нрава, крикливости, суетливости. Писать он умел, был корреспондентом ТАСС по Орехово-Зуевскому и соседним районам.
А.М.Леонтьева, кроме отчетов с пленумов и совещаний, ничего никогда не писала. Руководителем тоже была слабым, коллектив вез свой груз сам.
Г.А.Шеленкова, профсоюзного лидера хлопчатобумажного комбината, горком направил редактором, когда А.М.Леонтьева уехала учиться в партшколу. В газете он брался за все, не зная сомнений: писал, руководил, проводил внутренние реформы.
Ко мне все они относились хорошо. Я не испытывала трудностей в общении ни с дотошным Бершадским, ни с суетным Брызгалиным, ни (тем более) со спокойной, благостной (лишь бы сдавали материал) Леонтьевой, ни со старательно-деловым Шеленковым.
Здесь весной 1953 года на газетной летучке я услышала от последнего редактора о том, что в высших инстанциях решено коренным образом реконструировать Орехово - строить дома за рекой, газифицировать жилье, выселить людей из казарм в отдельные квартиры. Это казалось фантастикой, теперь же - давно свершившийся факт, новое Орехово, жизнь целого поколения.
Здесь началась наша дружба с Ревеккой Яковлевной, машинисткой редакции и стенографисткой высочайшей квалификации. Для меня и дочери она стала мамой Рикой, а для внука - бабой Рикой.
Здесь я становилась человеком, училась общению с людьми. Здесь узнавала устройство нашей жизни, ее руководяще-административное звено - райком, исполком, отдел культуры, райздрав, собес. Заводы, фабрики, колхозы, школы, больницы, клубы, Дворцы, библиотеки - быт во всем многообразии - каждодневные объекты внимания.
В книжном киоске Дома Советов пополнялась моя библиотека. Пожилая киоскерша оставляла хорошие книги.
Основная часть здания была неухоженная, с узкими, темными коридорами, утлыми кабинетами. Зато партийные организации благоустройством себя не обделили.
Спустилась со ступенек Дома Советов на тротуар и иду дальше. Рядом с домом, где главная аптека и главная (центральная) сберкасса, - 79-я казарма, вдали от всех прочих и в одиночестве. Там жила бабушка Бори Шуршалина. Сюда переехал текстильный техникум, здесь было последнее пристанище - на час! - Шуры, где простились с ней ученики, коллеги, друзья, родственники.
Ну, а дальше бывшее купеческое Орехово: магазины, магазины. "Подвальчик" - овощной, галантерейный, культтовары. "Электросбыт", книжный (МОГИЗ), мебельный. В этом ряду - парикмахерская, мастерская головных уборов, лучшее в городе ателье. И типография, где проходили мои дежурства по газете в ответственные дни выборов и праздников. Какое необычное чувство - увидеть свою статью на влажной полосе с мазками типографской краски и поправками корректоров, с запахом керосина, свинца линотипных отливок и опять той же краски. И фамилия в конце - твоя и не твоя, странно!
За Клязьмой - Зуево. В детстве бывали там не часто и знали немногое изо всего старинного района. Интересовал кинотеатр "Заря". Первый советский цветной фильм "Соловей-соловушко" мы смотрели там. Наверное, тогда еще и не было "Художественного" на Ленинской. Там же до войны смотрела (и не один раз) "Человек из ресторана" с Михаилом Чеховым в главной роли и артисткой Малиновской, звездой дореволюционного кинематографа.
В "Заре" шла и "Путевка в жизнь", первый звуковой фильм. Позже этот кинотеатр стал чем-то вроде кинотеатра повторного фильма. Любили его за хорошую акустику.
Время от времени мама ходила в Зуево на большой базар. Зачем-то увязывалась с ней и я, а потом изнывала от скуки, пока она ходила по рядам, выбирала мясо и другие продукты. Главным образом покупалось мясо, так как на нашем Крутовском рынке мясо не продавалось.
В войну там образовалась "толкучка". Желающих совершить быструю сделку было так много, что пришлось дополнительно выделить место для торговли промтоварами.
Особенно большой приток на рынок был в выходные дни. А в обычные хватало места на пустующих прилавках основного базара.
Здесь меняли буханку хлеба на платье или кофточку, покупали необходимое или, позже, желанное, чего еще не было в магазинах. Мне там в студенческие годы купили отрез шифона на блузку.
В Зуеве была церковь, улицы частных домов. Недалеко от рынка стояли две казармы, в одной жила тетя Матрена, бабушкина сестра, и семья ее дочери - Козловы. Галя Козлова, моя ровесница, шила мне свадебное платье из легкого кремового в пестрых цветах китайского крепа. Тетя Маня постоянно навещала Козловых, рассказывала об их жизни. С Галей "свела" нас тоже она.
Был там диспансер (по-нынешнему - поликлиника). Сюда мама меня, уже взрослую, студентку, приводила "за ручку" к врачу ухо-горло-нос Александровой: мама была с ней знакома по прежней работе и обращалась к ней при необходимости.
В бывший диспансер, ставший 3-й городской больницей, я приехала к маме за 9 дней до ее конца.
Вместе с Шурой ходила я на Зуевское кладбище, на могилы Владимира Михайловича и Миши. Там же похоронена и сама Шура в 1976 году.
В детстве мы знали, что дальше Зуева есть Подгорная фабрика, а еще дальше - "Карболит", недавно построенный завод, где делали электроосветительные розетки, вилки, абажуры для настольных ламп. Собственно, "Карболитом" и кончался город. Но я знала еще, что за ним - деревня Демихово, куда ездили к родне соседи Карташовы.
Летом, в августе, в День Военно-Воздушного Флота СССР город устремлялся на Исаакиевское озеро. На берегах водоема свободно расположилось летное поле аэроклуба. Поднимались в небо планеры, спускались парашютисты. Здесь делал первые шаги мой двоюродный брат Сергей Сафонов. Уже в войну он окончил летное училище, а потом стал инструктором, где-то в Закавказье. Сейчас он живет под Владимиром, давно расстался с летной профессией.
С первых лет жизни мы знали "чугунок". Если от казармы по нашей тополевой аллее пройти мимо забора хлопкового склада, то очень скоро и выйдешь на "чугунку". Сначала упрешься в "игрушечную" ("узкую") колею, по которой время от времени ходит "лягушонок", покрикивая придушенным некрепким голоском. Вдоль колеи и между рельсами растут трава и одуванчики.
Было у нас место за линией. Иногда мы шли на "чугунку", гуляли там. А за керосином ходили "за линию". "За линией" же был стадион - там мы тоже просто гуляли. Под высокими соснами при входе и по зеленой траве футбольного поля - никто не запрещал. Забирались под высокие деревянные трибуны, находя там, среди всякого мусора, кое-какие полезные для себя вещи: мячик, зеркальце, монету. Особую популярность стадион приобрел в 50-е годы, когда команда "Красное знамя" (а стадион был комбинатовский) занимала высокие места. Мимо наших окон, как на демонстрации, шли мужчины разного возраста и с ними немало женщин. Папа с товарищами-соседями заранее покупали билеты, снаряжались плащами, зонтами на случай дождя. Футбол был праздником.
Территорию слева от стадиона занимали курятники - многочисленные сарайчики, в которых энтузиасты-труженики держали разный скот. У родителей моей подружки Зои Евстигнеевой там жила коза. После окота маленькие козлята подрастали дома - симпатичные живые игрушки. Держали кур, свиней, коров. Сараюшки были чахленькие, дощатые, слепленные кое-как впритык друг к другу - целый городок. Пахло скошенной травой, под ногами лужи, сдобренные навозом. Хозяйки приходили к своим подопечным не один раз в день. И, пожалуй, не только с Крутого. Козье молоко у одной женщины из соседней казармы покупала иногда мама, чтобы поставить тесто с вечера. Пить его нам не нравилось.
Правее стадиона - завод, который, меняя свой профиль, постепенно стал заводом "Торфмашоборудование" Ореховского треста, пока они существовали.
Недалеко от него построили торфяной техникум, пользовавшийся популярностью у мальчиков, кончавших семилетку, - там было отделение механиков. Потом техникум стал называться индустриальным, утратив свою первоначальную направленность, опять же по причине угасания торфодобычи.
Улица Красина, бывшая Зиминская полоса - приземистые темные домишки, постройки барачного типа - вела к эстакаде, снабжавшей ТЭЦ торфом, добываемым на трех предприятиях: Ореховском, Озерецком и Губинском. связанных с городом еще одной веткой узкоколейки - тут уже были не только грузовые, но и пассажирские поезда. По своей газетной работе я потом не раз ездила этим путем на Верею - в детский дом, на Озерецкое - в школу, в Губино - в клуб.
От эстакады подымались вагонетки с торфом, плыли в вышине на своих роликах в ограде едва заметной металлической сетки над Зиминской полосой, пересекали линию железной дороги и скрывались в чреве ТЭЦ. Оттуда выплывали опрокинутые вверх дном в сторону эстакады.
Рядом с улицей Красина находилась керосиновая лавка: многие готовили на керосинках и примусах еду, в ходу были керосиновые лампы - электроснабжение часто барахлило. Продавали и гарное масло - для лампадок: много старых людей, несмотря на гонения, еще сохраняли веру, держали иконы, а в праздник перед иконой должен гореть огонек...
За лавкой, как огромный медведь, укрытый толстыми шубами, - большой погреб-ледник, очевидно, с запасами льда для всего города. Дворец прямо от земли. Заросли травы по насыпи.
Мимо керосиновой лавки, мимо погреба петляет дорожка, по которой мама ходит на работу. Она идет по диагонали к казармам, выходит к стоянке машин "Скорой помощи" (за высоким забором) - к проходной будке первой советской больницы. Впрочем, слово "больница" можно и не добавлять: всем понятно, что когда говорят "первая советская" - имеют в виду только больницу.
Мама работает в первой советской. Громадные двухэтажные корпуса расположились компактно, на небольшой территории: приемное отделение, хирургия, терапия, глазные и нервные болезни, физиолечебница (парафин, грязи). Возле корпусов много зелени - сирень, жасмин, желтая акация, высокие кусты с черно-красными съедобными ягодами, бузина. Скамейки для больных и посетителей среди травы с выглядывающими одуванчиками, клевером.
Недалеко от больницы находился театр. Старшие называли его Зимний, очевидно, в отличие от каких-нибудь летних театров в парках и садах. Зимний - уютное здание с отличной акустикой. В наше время его называли гортеатр, а еще короче - городской. На вопрос, где состоится концерт или спектакль, отвечали: "В городском". Сюда я бегала на спектакли Московского театра имени М.Н.Ермоловой, Белорусского драматического (ныне имени Якуба Коласа в Витебске), Ленинградского нового ТЮЗа. На эстрадных концертах здесь выступали Любовь Орлова, джаз Эдди Рознера, солисты радио. Московской оперетты.
Рядом с больницей и напротив театра, вдоль улицы - опять разбросаны рабочие казармы, разные: кирпичные, кирпично-деревянные. Савва Морозов, не пожалев денег на больницу и театр, не был щедр при устройстве жилья для рабочих - все эти казармы были гораздо беднее, теснее наших крутовских, викуловских. Здесь же - вотчина Саввы.
За первой советской до войны устраивались ярмарки.
Погожий осенний день. Солнечно, тихо, тепло. Продают яблоки на телегах, поделки из дерева, ложки, игрушки. Запах антоновки. Желтая солома на возах и под ногами.
Мимо больничного городка идет аллея, ведущая в парк имени 1 Мая. Парк этот старинный, говорят, здесь пел на открытой эстраде Федор Иванович Шаляпин, друживший с Морозовым. Мы с Людой слышали здесь выступление Эрнста Кренкеля, радиста с Челюскина", затертого льдами в Арктике. Здесь устраивались гулянья, концерты. Народу всегда было много - веселые, нарядные. Ели мороженое, пили ситро или квас. Пьяных что-то не помню. Обходить стороной никого не приходилось.
Дальше аллея вела в 4-ю школу и в городской питомник. Школа в финскую войну и в Отечественную служила госпиталем, а после войны там обосновался учительский институт (2-годичный), преобразованный потом в педагогический.
В питомнике выращивали цветы для посадки в городских скверах и парках.
Все, что было за линией железной дороги, в быту называлось "у Мороза". А по-настоящему это были Воронцовский и Пролетарский район города. Сейчас они разрослись, построено много современных домов, в основном пятиэтажек. Стандарт. Улица Текстильная - там живет Люда. Совсем близко деревня Дровосеки - когда-то она была за городской чертой, сейчас рядом.
До войны за линией напротив вокзала в Орехове стала сильно разрастаться Новая Стройка. Строились там приезжие, большей частью татары. Для нас этот район более чем какой-либо другой, оставался незнакомым - мы туда не ходили: далеко, неинтересно. Предпочитали другой конец города, тоже простиравшийся за линией - противоположную сторону. Там были торфобрикетный завод, 3-я будка, наши огороды...
Кроме обычного времяпрепровождения "около дома" в теплые летние дни мы свободно, "без спроса" ходили в лес, на речку, "за домики", к "трубочке".
Очень долго для меня Клязьма была не именем, а только понятием - река. "Пойдем на Клязьму" - звали купаться; огороды - за Клязьмой, вода в бане - из Клязьмы; ледоход - на Клязьме. Склонялось во всех падежах. Почему-то никогда не заменялось это слово словом "река" или "речка". Потом узнала, что Клязьма - это название. Зимой Клязьма не представляла никакого интереса - все начиналось с ледохода. После паводка появлялся Крутовский мост, связывающий нас более близкой дорогой с Зуевом и открывавший путь в лес "за домики" и на "Мельницу". Он был в десяти минутах ходьбы от нашей казармы, недалеко от Кировской школы и совсем рядом с 9-й, 10-й, 11-й казармами, которые оказались отторженными от реки подковой высокой насыпи, появившейся, по слухам, после одного большого наводнения, затопившего первые этажи. На насыпи посадили деревья, получилась аллея, по ней гуляли, мальчишки катались на велосипедах.
На подходе к мосту поверх земли была насыпана шлаковая крошка, по которой очень неприятно было ходить босиком. Пройдя это место, мы снимали сандалии или тапки, а дойдя до него, на обратном пути обувались. С мостика (по эту сторону) дорожка поднималась на бугор, продолжение насыпи, на котором стояли качели - гигантские шаги: столб со свободно ходившим вверху металлическим кольцом, к которому крепились канаты, иногда очень толстые (неудобные, хотя и более надежные) с петлей на нижнем конце. Туда мог влезть человек и сидеть на веревке, как на стуле, держась за канат. Но качели эти не для сиденья, а для полета. Разбег вокруг столба в радиусе натянутой веревки - и летишь, поджав ноги...
Из Людиного письма:
"Помнишь, как хорошо было раньше на Клязьме. На мосту рыбаки стоят с удочками и ведерками, а как сойдешь с моста - направо "1-й песочек", налево - "2-й песочек". На посту у "1-го песочка "бабы мыли одеяла и половики (терли волосяными щетками), потом расстилали на траве для просушки. А на "2-м песочке" был настил для полоскания белья - дощатый (кто-то все это делал, сейчас о таких "мелочах" и думать забыли). Кругом так радостно, солнечно, весело, ребятишки бегают. А другой берег (около 10-й казармы) отражается в реке своей зеленью, вода в реке зеленой кажется. И вот этот зеленый цвет воды мне больше всего запомнился. Стаи рыбок проплывают, ракушки ползают по дну. И запах Клязьмы, особенный запах..."
Я тоже помню этот запах, запах большой воды, мокрого песка, а у пологого правого берега - запах тины, водорослей.
У левого берега, где купались и стирали, более быстрое течение, там хорошее песчаное дно, желтая, слегка мутная вода.
У правого берега илистое темное дно, много мусора, брошенного с моста. Иногда мы, возвращаясь домой, переходили речку вброд и именно у самого моста. Задирали повыше сарафаны, поднимали в другой руке обувь и осторожно переступали, боясь напороться на осколки стекла или раскрытые жестяные банки. Ноги утопали в мягком иле, а на берегу колола каменноугольная крошка. Занятие не из приятных, но мы и не старались часто его повторять. Меня вообще пугал этот темно-зеленый правый берег, больше привлекал солнечный, желтый от "песочков" левый.
На "первом песочке" малыши учились плавать, перебирая по дну руками. Матери стирают - малышня плескается. Пологое ровное дно. На берегу сыпучий чистый песок, чуть дальше пробивается трава, лужок, где можно положить подстилку и наслаждаться солнцем.
От ложбинки "первого песочка" по обе стороны шли крутые берега, за ней дорога тоже шла в гору. На высокой террасе располагались огороды.
"Второму песочку" мы предпочитали "третий", там откос и места для купания были более удобными. На "четвертый" и "пятый" не ходили - река там была незнакомая, нам хватало первых трех. На "первом", повзрослев, уже не купались, а на "второй" или "третий" с нами и взрослые ходили. Когда подбиралась компания побольше и девочки постарше, шли купаться "в кустики", вниз по реке. Там, в зарослях ивняка, были уютные закутки, скрывавшие от посторонних взоров, в отличие от открытых "песочков". Но река там заболоченнее, тише. Посередине ее образовалась полоска намытой земли с илом, на ней вырастали осока и болотные цветы с розовыми зонтиками.
В довоенные годы река мелела, заболачивалась, замусоривалась. Собирались ее чистить, приводить в порядок, но война помешала. В 50-е годы на крутом левом берегу над нашими "песочками" построили современные многоэтажные дома, туда переселялись все казармы. Появились улицы Парковская, Набережная, протянувшиеся от Зуева к "Мельнице". Для удобства сообщения выстроен теперь новый мост, поворот на него с Ленинской - за деревообделочным заводом. А старый большой мост стал только пешеходным.
За Клязьмой начинался лес. Если пройти по утоптанной глинистой дороге мимо огородов - придешь "за домики". Сами дома мы не принимали во внимание. Хотя и подсматривали в щели заборов, видели там ухоженные грядки и плодовые деревья. Однопорядковый строй постепенно увеличивался, продвигаясь к "Мельнице". Когда-то это место называлось Карасово - так говорил папа. Мы же шли гулять просто "за домики". Здесь проходили довоенные вылазки на природу жителей нашей казармы - с высокими качелями, гамаками, самоварами, домашней снедью. Здесь петляла дорога на Дубенку и "Мельницу".
Дубенка крохотная, но живая речка. Прибегая к нам издалека, она не терялась в зарослях, не превращалась в болото. Видно, питалась подземными ключами. Она радовала темно-коричневой чистой водой, прохладой маленьких пляжей, живописно раскинувшимися деревьями, ветки которых, нависая над рекой, прикрывали и другой берег. По берегу много лиственных пород, а недалеко высокие сосны, ели с полянами цветов и ягод. Свою холодную темную воду Дубенка отдавала Клязьме. Наверное, здесь и была когда-то настоящая мельница.
Еще со времен молодости моих родителей на "Мельнице" устраивались большие гулянья. Никакой мельницы уже давно не было. Стояла там эстрада с куполообразной крышей, перед ней ряды деревянных лавочек. Народу всегда много, эти гулянья любили люди всех возрастов - и пожилые, и молодежь, и родители с детьми. Играл непременно духовой оркестр, выступали самодеятельные артисты. Буфеты на лотках и прямо на грузовиках. В разных местах на траве располагались компании - семейные и дружеские.
Еще один маршрут наших летних походов - "за большак". За черникой. Это очень далеко. Нужно рано вставать, еще до восхода солнца. Мы сговаривались с вечера и поднимаем друг друга, стуча в дверь. Не выспались, на улице прохладно. Знаем: далеко, трудно. Но уговор дороже денег - идем. Еще мокрая трава в лесу, влажные тропинки. Перешли "большак", солнце уже согрело нас, высушило траву, а идти еще почти столько же. Кружевной черничник под высокими соснами. Трудно собирать по ягодке. Но вот уже не слышно их стука в жестяном ведерке (с которым мама ходит за молоком на базар) - значит дно покрыто. Теперь следишь, как незаметно поднимается плотный слой темных ягод, но нужно еще много терпения, чтобы наполнить ведро до краев.
Еле доплелись домой, усталые, гордые добычей, мама испечет пироги в выходной, сварит кисель.
Железнодорожное ведомство ставило свои "будки" чуть ли не через километр, и в нашем обозрении были 3-я, 4-я и 5-я будки. Жили в них путевые обходчики, следившие за порядком на своем участке.
3-я будка - в черте города, 4-я - у Киржачского моста, а 5-я - почти в Войнове. Небольшие деревянные домики, крашеные в желто-коричневый цвет - жилые, сараи для скота, для сена, дров. Колодец. До 5-й будки доходили не всегда, сворачивали в лес немного раньше, за "трубочкой". У 4-й останавливались на обратном пути, если с нами были взрослые. Папа просил хозяев напоить нас, и нам доставали воды из колодца. Интересно!
У 3-й будки года за 2-3 до войны нарезали вторые огороды для жителей нашей казармы (первые были за Клязьмой). Взяли огород и мои родители. Земля была бедная, на одних грядках песчаная, на других болотистая, мокрая. Но поделено было всем по справедливости: грядка на песке, грядка на болоте. Мы в первый год посадили, кроме картошки, морковку, бобы, репу. На следующий год, видя тщетность усилий, только картошку, а еще через год и совсем забросили. Даже в войну не пожалели об этом брошенном огороде - уж очень невелик был урожай.
Психиатрическая лечебница стояла чуть впереди огородов, ближе к железной дороге. Симпатичный бревенчатый домик за высоким забором под сенью сосен, на зеленом травяном ковре. Отпугивало только название - "сумасшедший дом", очевидно, ожиданием чего-то непредвиденного. В быту выражение "3-я будка" означала этот самый "дом". Стоит он и по сей день.
"Трубочкой" называлась труба почти метрового диаметра, длиннющей змеей протянувшаяся из каких-то неведомых нам болотных далей в сторону Клязьмы. По ней откачивали воду. Местами ржавчина разъела металл, и из трубы били фонтанчики, под которыми так приятно было побрызгаться в знойный летний день. По теплой трубе обязательно хотелось походить, пробежать. Она уходила в глубь леса по широкой просеке, возвышаясь на подпорках среди осоки и зарослей низкого кустарника, а под ней мокро, вязко. Спускаться мы не решались и далеко по трубе не ходили - боялись.
Дальние окрестности - это Войново, где в войну за рекой были наши огороды от маминого госпиталя, куда студенткой ездила за полевыми цветами к своему дню рождения, где в 1956 году прожили лето на даче в настоящем, добротном, старинной постройки доме. Усад - две недели студенческих каникул вместе с Маей в доме отдыха.
В Покрове, в деревне Марково жила тетя Марфуша. У нее я гостила недолго.
Петушки - пионерский лагерь, Грибово. Вот бы куда хотелось съездить. А может, не надо, чтобы не разрушать очарования? Ну, хоть на озеро взглянуть - иногда вижу его во сне.
Ногинск - там работал дедушка, жили родственники. Туда однажды ездила с Валей Мониной, двоюродной сестрой. Удивили трамваи и множество вечерних огней поселка хлопчатобумажного комбината, где жила дальняя тетя, к которой мы приехали.
А больше никуда не ездили. Родственников не было ни в столице, ни в деревне, ни в других больших и маленьких городах. В Москву мама брала меня, когда ездила за продуктами, да и то было это раз-другой. Но однажды был праздник, вместе с ребятами из нашей казармы я побывала в парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Катались на "чертовом" колесе, ходили в комнату смеха. На вторую экскурсию по каналу Москва - Волга я почему-то не попала, только слышала с сожалением, как плыли на теплоходе и проходили шлюзы, завидовала тем, кто там был.
Других связей с внешним миром не было.
Совершив прогулки и экскурсии, опять вернусь "на круги своя", к тому, от чего отталкивалась, к чему возвращалась и уходила, все время имея в виду вспоминать повседневную жизнь в своей родной казарме по адресу: Ленинская, 153. Хотя казарма и не была на Ленинской.
Ленинская, 153. 5-я "служащая". "Служащими" были еще 6-я и 10-я - на Ленинской. Остальные без уточнения. А если уточнять, то они были "рабочими".
Наша 5-я "служащая" - трехэтажная, кирпичная. В плане - самолет старинной конструкции. Большие передние крылья - это коридоры с жилыми комнатами. "Пузо" - "проходная", ведущая к служебным помещениям. Два меньших задних крыла - это кухня, чуланы, туалеты. В передних крыльях - два крыльца - два входа: просторные сени, двойной тамбур, широкая чугунная лестница с литыми узорными решетками на второй и третий этажи. Еще один вход в хвостовой части, возле кухни - "заднее" крыльцо (в отличие от "переднего"), или "кухольное" (кухонное), через него можно быстро попасть в балаган, вынести мусор на помойку. На вешалах у балаганов женщины сушили белье. Мы гуляли "на переднем" крыльце (под окнами) и "на заднем", где больше солнца, простора, свободы для детей.
Через заднее крыльцо истопники носили топливо для печей и куба из сараев, пристроенных к самой задней стене казармы. Когда-то, кроме печей и куба, топили еще и котельную, расположенную в подвальном этаже, вход туда был недалеко от нашей кухни. Трубы из котельной проходили в комнаты, коридоры, на проходную, в кухню. Только чуланы не отапливались, были всегда холодными. Так что топлива требовалось много. Позже, когда построили ТЭЦ, работавшую на торфе, теплоснабжение стало централизованным, котельная осталась без дела. Топились по-прежнему печи (по две на каждом этаже) и куб, в котором горячая вода была практически целый день. Подвозили торф и дрова. В довоенное время - на лошадях (на санях, телегах), потом - машинами. В войну некоторое время пришлось заботиться о топливе самим жильцам.
Балаганы стояли в небольшом отдалении. Просторные, трехэтажные. Основное помещение площадью около 10 квадратных метров, высотой метра два. Здесь сваливали все ненужное, отслужившее, что жалко было выбросить, и оставлялось на всякий случай. Лежало, пылилось годами. Верх - для сушки белья. Передняя стенка - деревянное жалюзи: доски, поставленные ребрами под углом для притока воздуха. Развесишь белье и спокойно жди, когда высохнет: ни ветер его не унесет, ни дождь не намочит. Ну, а внизу - глубокий погреб. Там соленья, квашенья: большие кадки с капустой, поменьше с огурцами, грибами. Картошка ссыпана на всю зиму. Погреб (балаган) не персональный, на 2-3 семьи, но места всем хватало.
Фасад казармы выходил на улицу Фридриха Энгельса. Мостовая булыжная, тротуары грунтовые. Тополиная аллея от Ленинской до самой чугунки в несколько рядов.
Под окнами жители разбили сквер. С помощью шефов (ткацкой фабрики №2) поставили забор вдоль тротуара по всему фасаду, лавочки, устроили газоны, клумбы. Энергичными председателями совсода (совета содействия, вроде теперешних домкомов) были в те годы Яков Елисеевич Матвеев и Виктор Владимирович Дружинин. Жил у нас и свой цветовод-озеленитель Палачев, который работал в питомнике и охотно руководил всеми посадками. В высокой траве газонов на длинных ножках качались разноцветные "ночные красавицы", на клумбах испускали пряный аромат "ноготки", выглядывали "львиные зевы".
В сквере под сенью тополей, в прохладе любили играть дети, отдыхали на лавочках взрослые, можно было привязать гамак или качели. В лучшие времена там стоял большой стол, на котором раскладывались газеты, журналы. Лампа качалась на висячих проводах.
Когда клумбы и газоны исчезли от недостатка присмотра, появилось больше простора для ребячьих игр.
Прыгали через веревку - двое крутят, а остальные живой цепочкой пробегают с прискоками. Если сбился, запутался, отходи и жди, пока цепочка не иссякнет. Последний выручает всю команду. Если же выручающего постигнет неудача, а ему нужно проскакать несколько счетов сначала в обычном, медленном, а потом самом быстром темпе, тогда первые из оплошавших берут веревку в свои руки.
Набегавшись и напрыгавшись, переключались на сидячие игры: в "садовника", в "телефон", в "учителя" - с небольшим мячом и табелем, рисованным на земле, перед каждым "учеником"; отметки выставлялись за каждое упражнение. "Учитель" показывал, "ученики" повторяли. Смотрели за чистотой исполнения, ловко ли сделано. Очень старались. Сегодня ты учитель, завтра - ученик, или по очереди сегодня.
На большом открытом пространстве у балаганов была волейбольная площадка. Сетка и мячи хранились в красном уголке, был из старших ребят ответственный за них. Рядом с площадкой - "гигантские шаги", тут катались вволю. Зимой на площадке заливали каток.
Возле площадки у сараев нам было даже удобнее, чем в другом месте, скакать на доске. Находили среди привезенных на топливо хорошую ровную, не толстую, не тонкую, без сучков и перекосов дощечку, клали на бугорок, подложив еще по желанию доску или несколько. Получалось вроде весов. Двое вставали по краям. Один давал небольшой толчок, второй, подпрыгнув, ударял посильнее, взлетал то один, то другой. Чем длиннее доска, чем выше она поставлена, тем дальше подлетали, тем интереснее. Руки в стороны, как крылья, невольный вскрик - ух! Стук доски - ты внизу, но уже готова снова взлететь. Упавшего сменяет поджидающий, и так, пока не надоест, или пока не поломается доска.
Там же, у балаганов, "на заднем" крыльце было место для отдыха - "лужок", куда приходили дети и взрослые с одеялками-подстилками посидеть на траве, позагорать, посмотреть за развешенным на вешалах бельем.
Под солнечными окнами, смотрящими на чуланы, девочки любили играть летом - устраивали из кирпичей и досок квартиры, приносили кукол, игрушечную посуду, тряпочки. Не всем жителям первых этажей это нравилось. Знали, у кого под окном можно играть: у Бодровых, у Бахуленковых, у Карташовых, Корнеевых. Кто-то был снисходителен, кто-то целый день на работе. Нельзя - у Терехиных: обязательно высовывалась одна из сестер и злым голосом гнала прочь. Под окнами, смотрящими на кухни, играть было неинтересно: там постоянно снуют взрослые, нет ни лавочек, ни подручного материала. Тут привлекала чугунная пожарная лестница - от земли до крыши, высоченная, прочная. Отдельные смельчаки высоко взбирались по ней, даже залезали на крыши. Для нас, кто поменьше, она была спортивным снарядом (кувыркались как на турнике) и местом иногда долгих посиделок-разговоров.
В одно невыносимо жаркое лето после душного знойного дня люди со всех этажей приходили сюда спать на ночь. Приносили одеяла похуже, подушки, старую одежду, на подстилку. Другие спали в балаганах, как на даче. Там на верхних "этажах" все заранее вымывалось, вычищалось, устраивались постели с принесенными из дома принадлежностями. Сквозь дощатые с просветами стены видны были спальни соседей со всех сторон: слева, справа и с торца (два ряда балаганов стояли впритык, входные двери - по двум фасадам). Светились огоньки свечек или керосиновых ламп, слышались голоса, смех, потом все умолкало, сморенное сначала остатками дневной жары от накаленной железной крыши, а потом постепенно опускавшейся ночной прохладой, проникавшей в щели деревянных жалюзи.
В 1950 году на месте пустырей под окнами у пожарной лестницы и там, где мы строили "квартиры", жители по своей инициативе посадили деревья, кусты, поставили заборы. Посадки прижились, разрослись. Но запертые калитки делали эти места малодоступными для общего пользования, они просто охраняли покой жильцов.
Наша 5-я "служащая" - большое здание из красного кирпича. Стены его, судя по оконным проемам, почти метровой толщины. Потолки высотой метра четыре: чтобы снять из углов пыль и паутину к празднику, приносили высокую стремянку, стоявшую в коридоре для общего пользования.
Каждая семья занимала комнату в 24 квадратных метра. "Передняя" и "задняя" ее части разделялись деревянной перегородкой, не доводившей до потолка, сделанной из хорошего материала. По центру ее - дверной проем и добротная, красиво сделанная дверь. В 30-е годы, на моей памяти, эти двери стали дружно снимать, они, наверное, мешали разрастающимся семьям. Сначала они выстраивались стопкой "на попа" около чуланов, потом исчезли.
Каждая комната соединялась с соседней, такой же, еще одним ходом, который был в "передней". (Передняя - значит главная, парадная, светлая. Задняя - темная). То есть, по замыслу семья "служащего" (конторщика) должна стать обладательницей 48-метровой квартиры из четырех комнат (две темные, две светлые) с двумя самостоятельными ходами. Практически же такой квартиры ни у кого, на моей памяти, уже не было. Было ли так поначалу, не знаю. Только комната №1 была нестандартной, меньше других, и не сообщалась с соседней. Кажется, она была рассчитана на проживание сторожа, дворника или уборщицы - капиталисты могли себе позволить и такое. Наша комната №2 сообщалась с №3, №4 - с 5-й и т.д. Ходы между ними были наглухо заколочены, как будто их и нет.
В "передней" стояли стол, диван, комод, буфет. Это была столовая. "Задняя" - спальня, по обеим стенам кровати, ближе к двери - сундук, гардероб. Таков примерный, но очень характерный облик наших комнат, так было удобно.
В больших крыльях "самолета" два крыльца. Светлые (с двумя окнами) сени: двойной тамбур - плотно закрытые зимой и распахнутые летом двухстворчатые обитые двери. Постоянно ходили через правое (если смотреть с улицы) крыльцо, левое же с осени до весны было забито планками крест-накрест для сохранения тепла, хотя проход из коридора на верхние этажи оставался.
Сени вели в коридор, по обе стороны которого - двери тридцати одной комнаты. В торцах коридора по большому окну. Эти окна в отличие от всех прочих особенные: широкие, высокие, с закругленным верхом. Назывались "итальянские" или проще - "тальянские". К ним зимой выходили покурить мужчины: прислонившись к толстой трубе отопления, стояли просто так, глядя на улицу или на проходящих, дожидаясь кого-то с работы или из магазина. Дети кучкой сидели на подоконнике, затевая игры. Там пересаживали весной комнатные цветы. Мой папа, как и другие, чистил там обувь, тщательно наводя глянец на свои штиблеты (его слово), мамины туфли, наши башмаки, выстроенные в ряд.
Коридор со сводчатым потолком. Пол выложен каменными темно- и светло-серыми плитами в шахматном порядке, ромбообразно. В человеческий рост масляная панель, верх побелен. В каждом крыле две лампы под абажурами. Оба крыла выходили на широкий проход в кухню, чуланы, туалеты, на кухонное крыльцо.
Посередине всего пространства кухни сложены "русские" печи, по три для каждой части. Все они состыкованы в один блок. Топились каждый день две печи, одна со стороны галдарейки, другая с противоположной стороны. Для завтрашнего дня топливо закладывалось с вечера в другую печь.
Слева, у окон (а на галдарейке справа, тоже у окон) располагались "катки", кухонные столы для каждой семьи - небольшие шкафы под одной общей крышей. В шкафах хранилась утварь первой необходимости - сковородки для поджарки лука, кружечка с маслом и тряпочным помазком на палочке, соль, небольшие горшки-чугунки для каш. На "катках" чистили картошку, резали, толкли, мыли. Бабушка разбирала вечером студень, томившийся весь день в печке, рубила мясо в деревянном корытце, а потом уносила его застывать в чулан, где и летом было холодно.
Каждая хозяйка запирала свой "каток" на замочек, который при необходимости снимался, чтобы пойти с ним в баню, если одновременно шли мужская и женская части семьи. Следили за чистотой своей ничем не отделенной от соседской площади. Отношения между соседями по "каткам" бывали разные - и дружеские, и неприязненные. У мамы с тетей Любой Савиной - глухо-напряженные. До ссор не доходило, правда, а ладу не получалось. "Катки" распределились по непонятному принципу, не по порядку квартир. Наш был первым (квартира №2), сразу у входа. Неуютно "на ходу", зимой дует из двери. Но зато подступ к нему с двух сторон, больше простора. А летом и совсем хорошо. И от окна светло, и широкий подоконник можно использовать.
На "нашей" стороне (при входе) "катков" больше. Она не такая уютная. Пол асфальтовый, темный, с вкрапленными камешками. Зато здесь все под рукой и не надо бегать по ступенькам. Умывальник - большое медное корыто, которое начищалось в день уборки до золотого блеска. Четыре медных крана над ним с двигающимися сосочками. Полочка для мыльниц и коробочек с зубным порошком. Под ногами деревянная решетка, чтобы ногам не сыро, чтобы детишкам повыше... Отдельный кран - винтовой - с раковиной - для хозяйственных нужд. Рядом с ним большой бак для отходов и мусора.
К печному блоку примыкает дымоход под железным кожухом с торчащими из отверстий железными трубами - здесь, кому хочется, "ставят" самовар.
Возле печек - переносные столы, куда можно выставить из печки горячий чугун, быстро помешать или заправить. У печки стоит набор разных размеров ухватов, сковородников и одна обязательная кочерга. Ими свободно пользовались не только взрослые, но и дети постарше.
Каждая хозяйка готовила еду только на своем "катке". Не принято было ставить горшок не в свою печь, брать угли для утюга или самовара не в своей стороне. На это "исконные" владельцы смотрели с неудовольствием, а то и оговаривали.
С каждой стороны в глубине кухни были небольшие комнаты. Их строили с расчетом на прислугу, которая следила за печкой, за чистотой и порядком на кухне. Говорят, что раньше (до революции) хозяйка могла поручить кухарке поставить в печку свой чугунок, посмотреть за ним, и когда она приходила со смены - доставала готовую теплую еду. На моей памяти в этих комнатах, не очень удобных (а со стороны галдарейки это были сушилки для белья) жили обычные жители, семейные, с детьми. Ни о каких кухарках мы не знали. Оставались только истопники - люди, которые обслуживали печи: приносили дрова и торф, затапливали их рано утром, загребали их. Позже все это делали уборщицы, еще позже - жильцы.
В обязанности уборщицы была уборка всех помещений: коридоров, кухни, туалетов. Ежедневно с утра заметали полы. Раз в неделю их мыли, обычно это делалось поздно вечером, когда все угомонялись. Мусор из кухни выносился каждый день.
На втором этаже, на кухне, у ступенек, ведущих на галдарейку, находился куб. Помню титаны - цилиндры из белого, желтого металла, большие, почти до потолка или поменьше: их меняли, когда не надеялись отремонтировать. Был куб с вмазанным в кирпично-цементное облачение котлом - неуклюжее сооружение, занимавшее много места.
У куба иногда собиралась очередь: мужчины, женщины, дети постарше - с чайниками, бидонами, ведрами. Дойдя до крана, каждый имел право ополоснуть чайник для согрева, отойти к раковине, выплеснуть и наливать свежего кипятка. Если "топка" хорошая, то очереди нет. Кипящий титан шумел вверху какой-то свистелкой - только тогда брали воду на чай. Для полов, стирки можно было брать просто горячую, не кипящую воду, если разрешали дожидающиеся кипятка или если очереди не было.
В очереди у куба были разговоры, шутки, обменивались новостями. Детям помогали набрать воды. Со мной произошел там несчастный случай: я споткнулась, разлила кипяток из чайника и сама упала на коленки в горячую лужу, обрызгав ноги Ины, девочки-соседки, составившей мне компанию. Нас долго лечили, возили на санках на перевязки в Крутовскую амбулаторию.
Куб топил кубовщик или кубовщица - это особая должность. Большие корзины с торфом таскали по лестнице, согнувшись "в три погибели".
Был 31 каток на кухне, был 31 чулан для 31 семьи - на каждом из трех этажей. За тугой дверью несколько рядов небольших темных "комнат". Места - только войти и развернуться, глубокие полки. У каждого здесь менее ходовая утварь для кухни, тазы, ведра, что-то не очень нужное и продуктовые поклажи кое-какие. Тут летом прохладно, а зимой просто холодно. Глухие деревянные полы.
Впоследствии, в войну, чуланы со всех трех этажей перенесли к нам вниз. Каждую "комнатку" поделили на две, поперек. Кому достался низ, а кому верх. Это было не очень удобно и, наверное, всем чуланов не хватило. Но зато на их месте на втором и третьем этажах устроили общежитие для молодых работниц хлопчатобумажного комбината, приехавших из Воронежской, Курской, Орловской областей по организованному набору. Их руки были очень нужны, а жилье в те годы совсем не строилось. Там и отопление провели, а уж сколько коек можно было поставить...
Еще позже общежитие на втором этаже поменялось местом с нашим довоенным красным уголком. На третьем этаже под общежитие заняли и чуланы, и большую комнату на проходной. У нас внизу общежитие было только на проходной.
В одной комнате оседало часто несколько поколений: жили бабушка-дедушка, молодые родители, дети. А получали-то жилье еще старики "при старом режиме".
К таким относились и мы, Монины. И еще - Суворовы, Громовы, Виноградовы, Бодровы, Благовы, Голицыны, Язевы, Овсянкины, Кузнецовы, Вельтищевы, другие. Это были семьи со старинными традициями, достатком, сохранившимся от прошлого, определенные культурным уровнем. Были и новоселы.
Вот жильцы нашего первого этажа (начиная с 1-й комнаты и по порядку до 31-й включительно): Савины, Мокины, Суворовы, Громовы, Пожаровы, Воробьевы, Ломтевы, Бредневы, Карташовы, потом Ульяновы, Черкасовы, Челноковы, потом Марковы, Лавриковы, Савины, Пономаревы, Ляпуновы, Мухановы, Виноградовы, Виноградовы-младшие, Степановы, Матвеевы, Ильины, Челноковы, Майоровы, Воробьевы, Поликарповы, Корнеевы, Ионовы, Карташовы, Бахуленковы, Терехины, Бодровы, Селиверстовы.
Помню по фамилии жителей со второго и третьего этажей. Со многими никогда близко не соприкасалась, а память все равно держит их перед глазами: Благовы, Голицыны, Язевы, опять Ильины, Лакутины, опять Воробьевы, еще Воробьев (все они были родственниками), Миленушкины, Тухловы, Овсянкины, Кузнецовы, Вельтищевы, Власовы, Евстигнеевы, Лобцовы, Шивагорновы, Беловы, Соколовы, Ратайчики, Гусевы, Матвеевы. Егоровы, Максимовы, Алексеевы...
Кто же мы были? Что за люди? Что за народ?
Народ в основном простой, ничем не выдающийся. Даже фамилии самые обыкновенные, русские. А непонятную фамилию Ратайчик мы "переделали" на свой лад и называли Левку, Римму и Берту - Ратайчиковы. Может быть, была в них какая-то нерусская кровь, но мы об этом не задумывались. (Так же как никогда за все годы жизни в Орехове я не слышала, чтобы как-то особенно говорили о евреях).
Почти все - исконные городские жители. Хотя наши бабушки могли быть выходцами из крестьян, как Людина бабушка. Мои обе прожили свою взрослую жизнь в городе. Связь с деревней из всех семей нашего первого этажа была только у Карташовых - они ездили летом в Демихово, остальным ехать было некуда.
Образованием мало кто выделялся. Мои родители - папа, окончивший вечерний текстильный техникум, и мама, окончившая медицинское курсы в Москве при больнице им. Семашко, считались людьми образованными, с хорошей специальностью. Но таких было мало. Работавших на станках (ткачих и прядильщиц) тоже единицы: ведь казарма поначалу заселялась служащими, так и шло по наследству. Были среди нас работники контор, бухгалтерии, портнихи, учителя.
Высшее образование успели получить дети самых старших наших жителей. Суворовы - Клавдия Семеновна, моя учительница физики до 10-го класса (может быть, только по знакомству она не поставила мне двойку на выпускных экзаменах?): ее брат стал инженером - оба они у нас уже не жили, а только приходили в гости к родителям. Шура Громов, брат Людиной мамы - инженер, работал в другом городе. Дочь Овсянкиных - врач, впоследствии заведовала горздравом, жила отдельно. Язева Мария Федоровна учила моих сверстников, была завучем, жила с родителями на втором этаже. Сама Голицына (Серафима Николаевна), окончив техникум, преподавала рисование в дошкольном педучилище. Жила с мамой, братом и сыном над нами, на втором этаже.
Многие из поколения, родившегося незадолго до революции, из-за сложных обстоятельств жизни остались с 6-леткой, тогдашней средней школой.
Но жили у нас "на равных" городской прокурор Н.И.Булычев с женой и двумя детьми и управляющий банком Козлов с женой, бездетная пара. Козловы жили замкнуто, не располагали к общежитию, а Н.И.Булычев охотно давал консультации по юридическим вопросам, с ним можно было поговорить и на другие темы.
Авторитетом в текущей политике был любознательный, начитанный Я.И.Максимов, вокруг него всегда собирались заинтересованные спорщики. В основном все имели средний достаток. Богатых не было. Может быть, только управляющий банком, который не тратился на детей.
Семьи с двумя детьми (а их большинство) укладывались в бюджет "по одежке", не предъявляя особых претензий к жизни. Где детей было трое и больше, жилось заметно труднее.
Никто не старался выделяться. Не было зависти, соревнования в желании удивить.
В комнатах была почти одинаковая "обстановка". Детей одевали без затей, никто ими не любовался. Бабушки не особенно льнули к внукам, предоставив их родителям. Детей не возили к морю или на дачи, сами тоже не ездили. Ни у кого на стенах не висели настоящие ковры, а у рукодельниц были самодельные. Остальные вытирали одеялами меловую побелку стены у кровати до глянца, перины - приданое невесты - лежали в кроватях на досках, и летом их вместе с подушками выносили сушить, а доски на солнышке поливали от клопов кипятком и мазали керосином.
Никогда в кухне не пахло курятиной.
Велосипед - большая радость, предел мечтаний. Купленные до революции были конфискованы во время гражданской войны, а на новые постоянно не хватало денег, было не до велосипеда.
Может быть, с тех нелегких времен стало необходимостью штопать носки и чулки. Их накапливались большие кучи. Мама умела штопать виртуозно, я переняла у нее этот навык.
Детей было много, и жить нам было весело. В большинстве семей по двое. Двое Савиных, двое Мониных, двое Пожаровых, Черкасовых, Ляпуновых, Виноградовых, Ильиных, Воробьевых. Трое Ломтевых, Бахуленковых, Лавриковых. У Ионовых одна дочь. Все мы росли еще в до-детсадовскую эру, почти без присмотра, потому что бабушки еще не сделали из нас культа, в лучшем случае могли накормить тем, что оставили родители.
Мы, дети, всегда в куче или парами, тройками. Ходили - куда хотели, делали, что нравится. Родители на работу, а у нас ключ на шее, на веревочке. И ключ не теперешний - маленький, плоский, а большой, тяжелый. Такой ключ брать с собой не хочется, он мешает. Додумались запирать дверь изнутри, сами же вылезали в окошко. Или родители были дома, а потом вышли в магазин или на кухню. Ждать некогда - выручает окно, которое летом открыто весь день. В окно лазить неудобно, потому что на подоконнике стоят цветы – столетник, Ванька-мокрый, герань, бегония. Там еще могла быть кастрюлька с молоком, миска с винегретом, масло в масленке. Ничего не задеть, не разбить, не разлить! (Холодильников-то не было!).
Родителей долго нет, а ты без ключа, и проголодалась. Опять в окно. Заберешься в буфет, кусок хлеба намажешь маслом, посыпешь сахаром (если хлеб белый) или солью (если черный, а масло подсолнечное) и тем же ходом на улицу, где тебя ждут подружки с такими же кусками.
Как мы одевались? Этому не придавали значения. Но все-таки у мамы были модные вещи: фетровые светлые боты на каблучке (туда подкладывалась деревянная чурочка), каблучок пустотелый, как в калошах, предназначенных для туфель на высоком каблуке, длинные кожаные сапоги со шнуровкой от стопы до икры; пальто с воротником-шалью; летнее платье терракотового цвета, шелковое с туникой; красный в белый цветочек сатиновый сарафан с короткой кофтой-накидкой. Детям одежду перешивали из старого, ношеного. Платья девочкам шили или покупали недорогие.
Питались просто. После голодных тридцатых годов, когда мы, дети, по талонам обедали в столовой у железнодорожного переезда за ТЭЦ, кажется, всегда были сыты. На обед - мясной суп или щи, котлеты или тушеная картошка с мясом, рыба, каши, компот, кисель клюквенный (кругом болота, клюквы вдоволь). Не помню, чтобы покупали курицу. В выходной - непременные пироги: с рисом, с капустой, летом с черникой, ватрушки, плюшки. С мясом не делали. Незадолго перед войной у нас в семье вошло в обиход сливочное масло, какао, изредка покупались пирожные. Тетя Маня и дядя Сережа баловали нас с Борей шоколадом "Золотой ярлык", "Серебряный ярлык". Всегда в доме было молоко - с румяной пенкой, затопленное в печке. Селедку мама разделывала с луком, приправляла уксусом и горчицей. В праздник - сытный обед, почему-то на второе мясная солянка (со свининой, очень вкусно). Те же пироги. Торты стали печь только после войны и первые были - из кукурузных хлопьев, промазанных магазинным заварным кремом. Книг по кулинарии совсем не было.
Комнаты были обставлены довольно однообразно. Стол накрыт для удобства клеенкой. На нем поднос (у нас медный под облезающим белым покрытием) с чайником для кипятка и заварным с остатками разбавленной заварки - так вкусно пить из него остывший горчащий напиток; рядом - тоже становившаяся медной - быстро зеленевшая, сколько ее ни чисти! - полоскательница. Стулья венские, гнутые, с дырчатыми фанерными сиденьями, которые время от времени приходилось заменять на новые: фанера лопалась, расслаивалась. Комод с зеркалом посередине и тонкими гранеными вазочками с обеих сторон от него. В вазочках искусственные цветы, которые тоже обновлялись (покупались в магазине) по мере выгорания и загрязнения пылью. Перед зеркалом - флаконы с духами и одеколоном, коробочка с пудрой. По бокам еще много безделушек, круглая глиняная пепельница с пуговицами. И еще по центру у нас стоял чернильный прибор с двумя чернильницами (в одной красные чернила, в другой фиолетовые) и ручками, в которые вставлены перья "рондо" - папины любимые и 86-е для всех. Для посуды - буфет, для верхнего платья - гардероб. Кровати с кружевными занавесочками, сбоку - белая занавесочка, прикрывающая весь боковой срез: доски, на которых лежит перина, одеяло, покрывало. Подушки стопкой под кружевной или "строченой" накидкой. Пространство под кроватями не пропадало зря. Там стояли корзины, сундучки, ящики, банки с вареньем, бутылки с чернилами, клеем. В большом фанерном ящике у нас была сложена обувь: на зиму туда убирались тапочки, сандалии, калоши; на лето валенки, в общем - межсезонный склад, где иногда что-то задерживалось годами, например, мамины ботинки с коньками, на которых пришлось и мне покататься. Расхожая обувь стояла у входа, возле сундука. Сундуки и укладки тоже были почти у всех. В них хранили отрезы, постельное белье.
У нас у окна стоял круглый стол с резными ножками и красиво сделанной столешницей. На нем скатерть с бахромой. Слева - стопка бабушкиных "священных" книг, она их постоянно читала, надев очки. Справа - альбом с медной фигуркой ангела (с крыльями) поверху и медной застежкой, скрепляющей толстые золоченые листы. Семейные альбомы - обязательная принадлежность старых семей.
В некоторых комнатах можно было увидеть вещи, которых не было больше ни у кого. У нас - граммофон - темно-малиновый, с зеленой трубой для усиления звука. Он возвышался на бамбуковой тумбочке, специально для того предназначенной, с откидными полочками по бокам, с отделениями для хранения пластинок, на которых неестественными голосами разговаривали клоуны Бим и Бом, звучали старинные марши и вальсы, играли духовые оркестры.
У Пожаровых - этажерка с переплетенными комплектами дореволюционных журналов "Нива" и "Вокруг света" - там мы с Людой нашли рассказ о необитаемом коралловом острове, собирались сбежать из дома.
У Бодровых вместо икон - высокий киот, нарядный, позолоченный. Нижняя часть шкафа с глухими дверцами использовалась как аптечка.
Иконы и у нас занимали два передних угла. Позже по папиному настоянию (он же был коммунистом) бабушка оставила себе две иконы в своем углу, а в нашем появился большой портрет Молотова. Под портретом я играла в куклы, потом устроила кошкину столовую: на газете ставила две синие стеклянные мисочки.
В каждой комнате - свой особенный запах, у кого сундучно-нафталинный, у кого съедобный - приятный или не очень, у кого парфюмерный, но обязательно свой.
Каждая дверь открывалась и закрывалась со своим особенным звуком, который мы угадывали, не видя и издали. Жизнь в казарме отличалась от жизни в коммунальной квартире, а тем более - в отдельной. В отдельных жили немногие. В коммунальной жильцы зависели друг от друга, были связаны взаимными обязательствами по уборке, делили пространство в кухне и прихожей: здесь твое, а тут мое, у кого больше, у кого меньше.
У нас же - все на равных, все заранее определено: твоя комната, твой каток на кухне, твой чулан и твой балаган. Остальное - общее, для всех. За порядком смотрит комендант, за чистотой - уборщица. Задача каждого - придерживаться правил, быть терпимым, избегать стычек с соседями. Последнее условие не всегда удавалось соблюдать: были и стычки, и скандалы. Затевали их, как правило, одни и те же люди со вздорным характером и громким голосом. Никогда не слышала, чтобы в таких ссорах участвовала Людина мама или моя. Тетя Гапа Ломтева и тетя Настя Ляпунова могли кричать по любому поводу. Кто-то действовал исподтишка. Объединял наш коллектив совсод, то есть совет содействия. Кому? Очевидно, коменданту, жилищному управлению.
Совет выбирался из жильцов и действительно проводил большую разнообразную работу: собирал жителей на субботники для весенней уборки территории вокруг казармы, организовывал кружки самодеятельности для взрослых и детей, праздничные вечера и детские утренники, вылазки на природу летом, лекции в красном уголке на санитарно-гигиенические и международные темы. Выпускалась стенная газета, освещавшая положительные и отрицательные стороны нашего быта, с рисунками и карикатурами. Она вывешивалась у входа на кухню на втором этаже - все приходившие к кубу за кипятком могли ее видеть.
Совсод взаимодействовал с шефами, которые помогали материально, выделяя деньги на покупку детских книг и игр в красный уголок ("Аквариум", "Строитель", "Конструктор", "Мозаика", детский бильярд) - их выдавали по членским билетам, небольшим книжечкам, отпечатанным в типографии, - сдавший билет принимал на себя ответственность за пользование игрой или книгой.
Шефы оплачивали баяниста в праздничные дни и на летних вылазках, присылали своих лекторов. Без них не могли бы состояться экскурсии детей в Москву - в парк имени Горького и на канал Москва-Волга. Они же субсидировали одно лето наш домовый пионерский лагерь: нас водили в лес, кормили обедом, укладывали на лужке у балаганов отдыхать на принесенных из дома одеялах и подушках.
Под руководством совсода прошла волна борьбы за здоровый быт. Над лучшими комнатами после обхода специальной комиссии из жильцов появились красные флажки. Следили, чтобы проветривались комнаты, чтобы дети спали отдельно от взрослых, чтобы вечером чистили зубы. Вот с чего начиналась культура! Тогда-то мне устроили постель на бабушкином сундуке, а Боре купили кушетку-раскладушку с тяжелым деревянным остовом. Ткань на ней быстро порвалась, кушетку отнесли в балаган и устраивались на ней кое-как в жаркие летние ночи.
Совсод договаривался о приезде кинопередвижек, был инициатором радиофикации комнат. Долго помнили жители председателей совсода Якова Елисеевича Матвеева и Виктора Владимировича Дружинина - они работали охотно, с душой, были хорошими организаторами.
Кажется, интересно жить было всем - и взрослым, и детям. Взрослых приглашали на лекции - заранее вешали объявление, а перед началом открывали каждую дверь с коротким призывом: "На лекцию!" - в этом помогали дети. Были два хора - один для всех желающих, второй - для старичков и старушек, в их репертуаре - старинные народные песни. Когда стали входить в моду "западные" танцы (танго, фокстрот), желающие могли их разучить в красном уголке в определенные дни. Приезжала кинопередвижка - все собирались на площадке 2-го этажа. В праздники - утренники, концерты самодеятельности (кто во что горазд), выступления кружков, детских и взрослых, и допоздна - танцы, хороводы, общее пение.
У детей - игры в коридоре: и тихие с куклами, и с беготней, и сидячие. Библиотека и игротека в красном уголке, занятия кружков - хорового или "студии", где репетировались и гимнастические упражнения, и танцы. На сеансах кинопередвижки первыми зрителями были дети. Скучать было некогда. В нашу детскую жизнь незаметно входило все, без чего человек не живет. Мы получили прививку коллективизма, общности с другими людьми. Слушая старинные песни на вечерах или вылазках, играя в игры, которые нам показали бабушки или мамы, мы сами о, том не догадываясь, принимали традиции старшего поколения.
Наша общность исходила из условной жизни, из коридорной системы. Ты всех видишь и сама у всех на виду. В одиночестве сидеть не приходилось.
В любое время дня приоткрывалась дверь комнаты, и голос подружки называл твое имя. Бросаешь все дела и пулей несешься на зов. Не обязательно выходить в коридор, можно разговаривать через открытую дверь.
Разговор начинался с вопроса.
- Выйдешь?
Это значит, что еще неизвестно, зачем зовут, потом придумаем вместе.
В начале 30-х годов провели нам радио. Общую проводку сделали по всему коридору, а комнаты подключали по желанию. Не все жаждали приобщиться к новшеству. Папа решился сразу, и нам установили розетку у заколоченной навсегда двери к соседям. Черная тарелка репродуктора с названием его, то ли самого изделия - "Рекорд", ставшая символом довоенного быта и провисевшая у нас долгие годы, появилась не сразу. Сначала были наушники. Длинный провод повис от розетки по стене, через перегородку - на спинку кровати. Два наушника на ободке редко надевались на голову. Разъемный провод позволял сразу двоим приложить к уху по наушнику. Когда слушал один, второй наушник лежал под подушкой, и звук от него никому не мешал. Обычно один наушник лежал или висел сверху и "создавал фон". Наушники так и остались навсегда для тихого вечернего или утреннего слушания и включались поочередно с громкоговорителем.
Радио слушали в семье все. Мама любила песни. Папа не засыпал, не послушав "Последние известия", утром рука находила под подушкой наушник - день начинался тоже с новостей.
Мое первое впечатление - удивление до растерянности: по радио передавали песню, которую пела мама... Из наушника мы услышали страшную весть - убит Киров, позже - разбился Чкалов. И первое театральное впечатление - "Анна Каренина", спектакль Художественного театра с А.Тарасовой и Н.Хмелевым. Свидание Анны с сыном до сих пор на слуху. Плакала Тарасова - плакала и я. Первоклассницей заинтересованно слушала детские передачи и однажды написала письмо в Москву на радио с просьбой передать мои любимые "Зимний праздник", "Машу-растеряшу", "Китайский секрет". Меня похвалили за аккуратность (очень старалась написать без ошибок, бегала за консультациями к папе) и обещали исполнить мои желания.
С тех пор знаком мне голос замечательного артиста Николая Владимировича Литвинова. Потом он на пластинках рассказывал андерсеновские сказки и истории для моей дочери и для внука.
По радио я любила разучивать песни: "Пионерские мечты", "Песенка туриста", "Песенка друзей". Их помогал разучивать детский хор. Солистом был Коля Кутузов, теперь он народный артист СССР, руководитель хора Всесоюзного радио. А я все еще слышу давнего довоенного мальчика. Верен песне всю жизнь. Вот эта песня - голос того времени и голос моего детства.
Улетают герои-пилоты
В океан голубой высоты,
И на крыльях несут
самолеты
Пионерские наши мечты.
Как отважный герой
Водопьянов
Мы водить самолеты хотим,
Через полюс в заморские
страны
Мы за Громовым вслед
полетим.
Покоряя моря-океаны,
Мы вернемся к родным
берегам,
Где любимый и ласковый
Сталин
Улыбается приветливо нам.
Такой хороший лирический мотив у нее. А песенка туриста - задорная. Ее поют до сих пор: "Крутыми тропинками в горы..." Слова С.Михалкова, также, как и слова другой очень популярной тогда и дожившей до наших дней песни: "Мы едем, едем, едем в далекие края" из фильма "Веселые путешественники", который я не пропустила при его появлении.
Без радио уже трудно было представить жизнь. Из репродуктора узнавала новости, хорошие и плохие, узнали и самую страшную - о том, что началась война. Нам сказал об этом в "Важном сообщении" в 12 часов солнечным июньским днем В.М.Молотов, тогдашний министр иностранных дел.
Радио утвердило меня в выборе жизненного пути через передачи "Театр у микрофона" и назвало мне "мой" институт. Я и сейчас предпочитаю: часто радиопередачи телевизионным, уединяюсь на кухне и слушаю "Поэтическую тетрадь", обозрение "Театр и жизнь", спектакли московских театров, литературные чтения "Тихий Дон" и "Мертвые души". Михаила Ульянова считаю вершиной искусства. Величайшее наслаждение было слушать "Мастера и Маргариту" в исполнении О.Ефремова и "Театральный роман" - Ю.Яковлева.
Еще одним источником информации у нас в семье были газеты. Папа выписывал "Правду" и обязательно нашу городскую "Колотушку". Читал их дома или на лавочке под окном. Любил поговорить о прочитанном.
А вот книг было мало. Можно сказать, что их не было совсем. Только детские, которые покупались для меня, а потом переходили к Боре. Они подшивались - по врожденной папиной привычке к аккуратности - в толстую связку. Я их знала наизусть и "читала вслух", ориентируясь по картинкам.
Родители мои прочли "Анну Каренину" и "Тихий Дон", которыми повально увлекались все соседи, и книги переходили из рук в руки. "Анной Карениной" заинтересовались в связи с постановкой во МХАТе - о ней много говорили, транслировали по радио из зрительного зала.
Библиотекой никто в нашем коридоре похвастать не мог, в лучшем случае стояла этажерка с книгами, как у Пожаровых. Людину маму, тетю Юлю, помню всегда с книгой. Она была сильно близорука и книгу держала у самого носа. И Люда читала больше меня, от нее я узнавала об интересных книгах. У них были сочинения Пушкина, вместе мы прочитали "Очерки бурсы" Помяловского.
Если продолжить рассказ об эстетическом воспитании, начавшийся с кино и радио, то нужно вспомнить наши занятия в кружках художественной самодеятельности. Красный уголок был местом репетиций хора, танцевальных студий - мы готовились к выступлениям в праздничные дни.
Был рисовальный кружок Симы Голицыной и Гены, ее брата. Как ни странно, не было кружков рукоделия. Очевидно, это считалось мещанским занятием, пережитком прошлого. Стремление если не к прекрасному, то красивому было постоянно в нашей жизни. Рисовали узорчатые "дома", выиграв право на отдых в них среди 10-12 клеток "царицы", искали черепки разбитой посуды с яркими цветами и орнаментами - отмывали их от грязи под краном в кухне или в луже. Нужно было проявить вкус и воображение, чтобы нарисовать на ровной песчаной площадке нарядную "квартиру" со всей обстановкой: пытались лепить из глины. На наших детских утренниках на втором этаже баянист играл "Музыкальный момент" Шуберта, а мы шли хороводом под эту музыку,"Турецкий марш", рондо Моцарта, его "Колыбельную" знаю с незапамятных времен. Малышами танцевали "полечки" и "татарочки". Видели, как танцуют взрослые вальс, краковяк, падеспань, па-де-катр, воспринимали сначала на слух и зрительно, оставалось до них только дорасти. В самодеятельных концертах взрослых мы рано познакомились с жемчужинами тенорового репертуара: арией Ленского ("Куда, куда вы удалились..."), ариозо Дубровского ("Итак, все кончено..."), ариями Надира ("В сияньи ночи лунной...", князя из "Русалки" ("Невольно к этим грустным берегам..."). Все это пел И.В.Зубковский, имевший и уважительное, и насмешливое прозвище - Козловский. Тетя Нюра Гусева пела ариозо из оперы Чайковского ("Как на нашей улице муж жену учил..."). Старинные народные песни - в концертах самодеятельности и на вылазках и в застолье.
Такой же повседневностью был спорт. Во всех наших подвижных играх нужно было проявить физическую выносливость, ловкость, были в них азарт, соревновательность. Чтобы нарисовать "дом" в клеточке "царицы", нужно хорошо попрыгать на одной ноге, не наступив на черту. А сначала метко бросить черепок в определенную клетку. Для прыгалок (веревочка с деревянными ручками) - целая серия разных упражнений: на одной ноге, на двух, в разных темпах, круг прыгалки вперед и назад. Кто дольше? Кто быстрее? А прыжки через крутящуюся веревку! По одному прыжку на месте, по два, по три. В размеренном темпе и с такой частотой, на какую только способны те, кто крутит. Нужно хорошо чувствовать ритм, чтобы не запутаться, когда "вбегаешь" и "выбегаешь" из этого колеса.
А прыжки на доске! Следи за ритмом, подскочив, держи равновесие, приземляйся точно - не сорвись. Подлетая, чувствуешь упругость своего тела, упругость воздуха, блаженство взлета.
Игры с мячом, лапта, "цыганская лапта", "хоронички", "догонячки", "стрелы", "казаки-разбойники" - в них постоянно уходили наши силовые заряды.
У балаганов была волейбольная площадка. Играли ребята постарше, но иногда и нам доставалось постукать мяч. Тут же - "гигантские шаги", тоже спортивный снаряд. Зимой на месте волейбольной площадки - каток.
В какую-то зиму купили нам с Людой лыжи, и мы, сделав уроки, выходили с ними в наш палисадник, а иногда шли на горку к полустанку.
Наверное, эта закалка-тренировка и позволила мне сносно прожить 39 лет до операции на сердце и уже 25 лет после нее. Да здравствуют наши детские игры! Да здравствует Николай Николаевич Малиновский! Спасибо вам.
Так и проходили год за годом. Зима - лето, осень - весна. У каждого времени свой цвет, свой запах.
Зима. Первый снег ложится на пахнущую сыростью землю. Свежий воздух из форточки. Запах привезенной, еще поваленной на площадке второго этажа елки - предвестник праздника.
Весна. Запах набухших тополиных почек, только-только раскрывшихся блестящих липких листочков, вылезающих на свет своими остренькими верхушками. Тополь - дерево моего детства. Тополевая аллея под окнами - это не только аромат молодых листьев, это еще и досада: высокими ветками тополя закрывали солнце и без того не светлой нашей восточной стороны. Это красные "червячки", устилающие землю во время цветения и липнущие к подошвам, это пух, залетающий в окна.
Лето. Свет, солнце, запах пыли. Лужи, по которым обязательно нужно походить босиком, медленно измеряя глубину и чувствуя теплоту грязной воды. Как только начинался дождь, женщины со всех этажей выносили комнатные цветы и ставили их на землю в палисаднике, чтобы обдать живительной небесной влагой. Считалось, что после дождя они лучше растут. Кто нес герань, кто фикус, кто столетник. Бодровы и Благовы выносили пальмы, которые росли у них, сменяя одна другую.
Лето - это душистые букетики ландышей, охапки черемухи и шиповника. Пироги с черникой, принесенной самолично или купленной у лесных завсегдатаев, которые в течение дня подносили ягоды ко входу в магазин. Вкус спелых ягод черемухи - мы с Людой достаем их с веток, сидя на дереве. И сейчас взятая в рот ягода напоминает детство.
Лето. Это мороженое, за которым бегали ко 2-му магазину, получив от родителей очередные 10, 15, 20 копеек. За 10 копеек накладывали формочку поменьше, за 15 - среднего размера, а за 20 самую большую. На дно круглой коробочки с небольшими бортами и подвижным донцем клали вафлю, на нее ложкой из глубокой жестяной банки, стоявшей на тележке у продавца, как из колодца, доставали мороженое, водружая горкой на вафлю, подравнивая края. Сверху прикрывали еще одной вафлей. Вафли лежали стопкой по размерам, на каждой было написано имя. "Оля", "Таня", "Лида". Получишь мороженое - сразу смотришь, "кто" тебе достался, и поинтересуешься, а что же у подружки.
Бегали за вафельными трубочками с гоголем-моголем, их делали на наших глазах в палатке тоже у 2-го магазина и вручали нам теплыми.
На лавочке у 1-й казармы, напротив магазина, часто сидели торговцы с ручными лотками, наверное, частники. А торговали они карамельками на палочках: красными, желтыми, зелеными петушками, уточками, зайцами, рыбками. Этой же сладкой массой обливались небольшие, еще кислые яблоки. Яблоко обсосешь и выбросишь, а петушок надолго.
Запах осени - запах опавших листьев, смоченных дождем, увядших цветов на клумбах, когда никто не ругает, если оторвешь головку "львиного зева", чтобы рассмотреть получше, как она устроена, или наберешь горсть пахучих "ноготков" и уткнешься в них носом.
На огородах за Клязьмой (у нас тогда еще не было своего) соседи убирали картошку - мы бегали туда как на прогулку. Жгли ботву в кострах, пекли свежие клубни - очень все интересно. Свои огородные запахи - земли, горящей ботвы, дыма.
Позже рубили капусту. В погребе уже стоит подготовленная большая кадка. Летом ее доставали, на солнечном лужке у балаганов запаривали принесенным из леса можжевельником, чтобы прогнать запах прошлогодней заготовки и погреба. При необходимости красили масляной краской обручи, набивали новые взамен ржавых - только тогда спускали вниз. Обычно на лужке проходили предсезонную подготовку сразу все кадки и бочки, разного размера, своего предназначения: самая большая для капусты, меньше для огурцов и грибов. Помидоры тогда не солили, их было мало.
В выходной с утра в балагане начиналась работа. Мылось и чистилось запылившееся, большое деревянное корыто, которое целый год дожидалось своего дня тут же, в балагане. Доставались сечки с длинными как у ухватов ручками, висевшие в связке на стене рядом с корытом. Корыто ставили на скамейках-табуретках у входа в балаган. Для детей приносили маленькие табуретки, служившие им подставкой, были для них и легкие маленькие сечки. Собиралась родня. Раньше к бабушке с дедушкой приходили другие сыновья и дочь с зятем, жившие отдельно. При мне всегда помогали тетя Маня и дядя Сережа. Распоряжалась всем бабушка. Женщины подготавливали кочаны, вынимали кочерыжки. Бросали в корыто, вокруг которого стояли "работники" (рубщики). Начинали рубить мужчины, как более сильные. Спарив сечки, стукали по крепким половинкам, которые с хрустом распадались на куски, становившиеся под ударами сечек все мельче и мельче. Потом подключались женщины и дети.
У каждого был свой участок, его нужно измельчить как можно добросовестнее. Несколько раз останавливались, вся капуста сечкой перемешивалась, потом снова принимались за дело. Когда определялась достаточность измельчения, капусту солили, добавляли протертую морковь, еще раз все перемешивали - теперь уже руками, делали пробу на соль и, если все было как надо, ведрами опускали в погреб, в кадку.
Артельное это дело, хоть и нелегкое, проходило весело, с шутками:
- У кого листки, того за виски! - время от времени кто-нибудь напоминал: не забывайте, мол, о качестве. Детям в награду доставались кочерыжки.
После всех трудов - обед с душистыми мясными щами, с хорошим куском мяса в тарелке, или солянкой.
Запаса хватало на всю зиму. Положенные между рубленной капустой четвертинки и половинки съедали заправленными постным маслом и сахаром. Часто готовили кислые щи и солянки.
Корыто для рубки капусты и сечки одалживали соседям, у кого не было. Все это - инвентарь из "мирного времени" - не только дореволюционного, но и до "империалистической" 1914 года. Он постепенно ветшал, уже не обновлялся и ушел в прошлое где-то перед войной.
Как всегда и везде, у ребят были прозвища. Моих соседей Вальку и Вовку Савиных звали почему-то Сова и Комод. Среди нас жили Калинин. Каганович, даже Ленин. Мой брат был Чапаев, Чапай. Старых женщин называли по отчеству, без имени. Моя бабушка Федосья Алексеевна - просто Лексевна. Людина - Анастасия Артемьевна - просто Артемовна. Были Матвеевна (Савина), Филипповна (Степанова), Петровна (Ляпунова). Старых мужчин тоже так, но не всех. Был "Андрианыч" (Савин) и Семен Максимович (Суворов) - одного возраста. Молодых женщин и мужчин называли и ровесники, и старшие по имени: Маруся, Юля, Дуся, Гриша, Шура. Хотя за глаза могли прибавить и неуважительный суффикс.
Дети все были Нинками, Люськами, Гальками, Надьками. Но в тесном общении обходились, конечно, вежливее. Соседи поддерживали между собой отношения разной градации. Здороваться в коридоре было не принято. Обращались по необходимости. Нелюдимых игнорировали, редко вступали в контакт, как с Савиными. Черкасовы держались высокомерно, и все это чувствовали, но мало обращали внимания. К Селиверстовым относились пренебрежительно. Между некоторыми семьями были особые симпатии. Ильины с Алексеевыми, Бодровы с Благовыми. Вернее, дружили женщины, у них были общие интересы.
У Мониных была особая дружба с Бодровыми в течение многих лет. Мы запросто ходили друг к другу, помогали, чем могли. Эта дружба началась, когда я была совсем маленькая, и меня стала привечать Леля, дочь Ивана Ивановича и Евдокии Ивановны. Она была тогда молодой девушкой. Много лет спустя она вспоминала:
- Все идут на "Мельницу" с кавалерами, а я тебя тащу.
Меня, то есть. А мне в ту пору - 3-4 года...
Дядя Ваня и тетя Дуся тоже привязались к забавному ребенку, брали к себе в комнату, разговаривали, смеялись над моими проделками и лепетом (я еще не все буквы выговаривала). Без меня не садились обедать. Мне на стул ставили низенькую скамеечку, чтобы я могла дотянуться до тарелки.
У них я проводила время часами, приходила с игрушками и книжками. Свои внуки появились позже, их приняли с радостью и любовью, но и я оставалась в поле внимания.
Поженились дядя Ваня с тетей Дусей до революции. Он был конторским служащим у Морозовых. Она - воспитательницей старушек-богаделок, живших в нашей будущей школе №14.
Живые карие глаза под глубокими веками. Ярко очерченные брови. Удлиненный овал лица. Тонкий нос, красиво открытые ноздри. Красивый рот, подбородок. Гладкие темные волосы на прямой пробор, пучок. Легкая складная фигура. Облик со старинного дорогого портрета. Она определенно была красавицей. Дядя Ваня совсем другой. Высокий, большой, с добрыми серыми близорукими глазами. У него круглая голова с блестящей лысиной, очки.
Такими я помню их в то время, когда у них была взрослая дочь и маленькие внучки. Можно представить, какими были они в молодости. Поженившись, жили в согласии, достатке. Родилась Леля. Собирались в заграничное путешествие - революция сорвала планы. После 1917 года дядя Ваня по-прежнему работал в конторе, а тетя Дуся пошла преподавать рукоделие, так как была на это большая мастерица. Она прекрасно вышивала, делала работы с аппликацией. У кроватей дома висели ее коврики: Иванушка-дурачок в красном кафтане и колпаке присел с пером жар-птицы и смотрит, как она от него улетает, на другом - гуси-лебеди. Это была искусная работа.
Иван Иванович Бодров умер в 30-х годах от рака. Евдокия Ивановна прожила еще долго. В свои последние годы, оправившись после паралича, она плохо двигалась, трудно разговаривала, но интересовалась жизнью вокруг. Подолгу сидела на лавочке у крыльца, зябко съежившись, глядя на всех с доброй улыбкой, приветливо вступая в короткие беседы с проходящими. Но в ней и тогда можно было узнать красивую женщину.
Судьба Лели (Ольги Ивановны) не была счастливой. По паспорту она Митягина, но для всех соседей до конца своих дней осталась и Лелей, и Бодровой.
Только в детстве и юности жила беззаботно. А в 19 лет вышла замуж за Сергея Митягина, рослого, красивого парня с ярким румянцем щек, шофера, любившего выпить немножко больше нормы. В 20 лет Леля родила Риту, а еще через год Ину. Сергей наехал на человека - был суд. Скоро молодые, оставив Риту бабушке-дедушке, с младшей Иной уехали за счастьем в Сибирь. Были там недолго, пришлось разойтись. Дети были еще маленькие.
После смерти Ивана Ивановича, вдвоем с Евдокией Ивановной Леля растила девочек на маленькую зарплату и совсем небольшую мамину пенсию. От Сергея помощи не было, он подолгу не работал, а когда устраивался, присылал по исполнительному листу какие-то гроши.
Специальность Леля не приобрела, за плечами была только школа-9-летка. Поступила в бухгалтерию отбельно-красильной фабрики, где работал отец, постепенно продвигалась по службе. Это и было единственное место ее работы. Чтобы как-то облегчить жизнь, много лет брала работу на дом, всей семьей оформляли карты-бланки на отправку готового товара потребителям. Они нескончаемыми кипами лежали на столе.
С Лелей мы всегда чувствовали взаимную теплоту и интерес друг другу. Так я и осталась для нее, как и для тети Дуси, маленькой Томочкой, которую они очень любили. И они были для меня свои, близкие люди. Я навестила ее в последний раз незадолго до ее смерти в квартире на улице Урицкого, где она жила с внучкой Ритой после переселения сюда всех жителей нашей казармы.
С ее старшей дочерью Ритой виделась в Москве - она давно живет там, звоню ей, хочу еще повидать. Нам есть что вспомнить, о чем поговорить. Рита знала Борю, они ровесники. Ины уже нет в живых.
А вот какие впечатления остались у Люды о соседях из комнаты № 1.
"Там жили Савины: дядя Ваня, тетя Люба, Валька и Вовка. Когда я утром заходила за тобой, чтобы идти в школу, ждала тебя, стоя в вашей комнате на пороге, то часто из-за стены доносились странные звуки: детские крики и жвыканье ремня. Это Савины провожали своих сыновей в школу. Один раз Вовка позвал несколько человек к себе домой, родителей не было. Я принесла лото, мы играли. Стол был рядом с буфетом, а на буфете стояла тарелка со сладким пирогом. Я думала, что после игры Вовка будет угощать нас всех, одаривать куском пирога. Играли мы, играли, а я все думала об угощении. Вдруг Вовка стал всех гнать, говоря, что сейчас мать придет. А о пироге-то, видать, не я одна думала.
Мать - Люба, действительно была строгая и аккуратная. Мама моя мне рассказывала, что когда у Любы дети родились, она не заводила пеленок. Детей завертывала в газеты, которые после употребления выкидывала - чистота и никаких хлопот. Разговаривала тетя Люба все время шепотом. Когда она шла по коридору, казалось, что она никого не видит, да она и не смотрела ни на кого, а видела что-то впереди себя никому не видимое. Ей всегда казалось, что о ней все плохо думают и плохо говорят.
Дядя Ваня был похож на грача. Сам чернявый, и ходил в черном: куртка, шапка, брюки, ботинки. И приносил из магазина в свое гнездо полную сумку чего-то, закрытую сумку, тоже черную. Несколько раз за день он проходил с этой сумкой мимо лавочки, а сидящие на лавочке спрашивали друг друга:
- Чего-то он все носит? И сами себе отвечали:
- Запасается.
А я запомнила, как дядя Ваня Савин снежной зимой с помощью лопаты понаделал в сугробах у крыльца кресла, а мы вынесли одеялки, подстилки и сидели в них. Он был добрый и мягкий человек, судя по всему, тетя Люба им командовала.
Валька, старший сын, оказывается, как пишет Люда, мечтал, чтобы ему купили гармонь.
"Забравшись с ногами на итальянское окно рядом с их комнатой и прислонясь к трубе спиной, он часами выводил мотивы старинных вальсов своим вытьем. Он выл самозабвенно, и если бы сидел не на окне, а на ветке, он свалился бы в своем замозабвении. А потом ему купили аккордеон, он самоучкой освоил его и играл эти же вальсы. У Вальки был мягкий характер, он никогда никого не обижал.
Семья Ломтевых. Тетя Гапа - женщина не весьма приятная, а о характере и говорить не хочется: она была зачинщицей почти всех скандалов на кухне. Кричала громче всех. Муж ее - высокий, тихий, с впалыми щеками - больной туберкулезом. Событие, о котором знала вся казарма, - отец Ломтевых поехал в санаторий в Крым. Все ждали его возвращения не меньше, чем собственные дети: интересно было, что он расскажет, что привезет. Привез кедровые шишки, - вылечить же его не удалось, он вскоре умер.
Все дети Ломтевых потянулись к искусству. Старший - Слава - начал играть на каком-то духовом инструменте во Дворце культуры, а потом у него прорезался бас, после ломки голоса. Звуки его упражнений с голосом и трубой были слышны в коридоре. Нам оставалось только пожалеть его домашних, потому что в это время в комнате находиться было нельзя, если не хочешь оглохнуть.
Люся выделялась своими способностями в ТЮЗе. Младший - Вова -когда подрос, тоже стал играть в духовом оркестре, а последние свои годы был его руководителем. Он умер молодым. Слава пропал без вести на войне. Люся тоже жила недолго.
Настороженно, с оглядкой через плечо жили Черкасовы. Над ними тяготели неосуществившиеся ожидания. Болезненно переживала это тетя Дуся, а от этого было в ней постоянно раздражение, презрение к людям, ехидство и недоброта даже по отношению к детям. Чужим, конечно. Свои были - самые красивые и умные, необыкновенные. Сама тетя Дуся - красивая, темноглазая, у нее открытый лоб. У дяди Гриши - лицо интеллигента. Дети - Толя и Мила (Эмилия) - и вправду красивые и умные.
Дядя Гриша до революции не успел окончить гимназию и дальше в образовании не продвинулся. У тети Дуси, видимо, сорвались какие-то жизненные планы. Но претензии остались. От этого она чувствовала себя несчастной, была недовольна и жизнью, и мужем, завидовала всем, кто жил просто и открыто. По этой причине она не любила мою маму, и заодно и меня.
Дядя Гриша работал администратором в учреждениях культуры, одно время где-то в Москве. Это не давало прочного и желанного положения. Тете Дусе приходилось работать по конторской части. Заработок небольшой, дети заброшены, дом - тоже. А она, как пишет Люда, "всю жизнь тянулась к "высшему обществу". А какое уж тут "высшее", если муж в разъездах, дома ничего не успеваешь, готовить ему приходится на керосинке, которая стоит на столе среди неубранной после спешного завтрака посуды...
Приходил помочь ее отец - добрый старичок в полотняном белом пиджаке, брал заодно и других детей. Жил он со свояченицей в маленькой комнате в казарме против бани у "Мороза". Мы там бывали.
Неблагополучием отличалась семья Мухановых - отец, мать, три сына. Отец - нелюдимый, но как говорили, кому удалось с ним поговорить, неглупый человек. Тетя Зина долгие годы тяжко болела, не выходила из комнаты не только на улицу, но и в коридор. Помню ее выглядывающей летом из окна. Худое серое лицо, заострившийся нос, голова туго затянута косынкой (как делают многие при сильных болях).
Больная мать в семье, небольшой заработок отца - бедность. Все неухоженные, в заношенных худых одеждах. Около их комнаты мы часто играли - "на том конце", где сени заколачивали на зиму. Когда дверь комнаты открывалась, оттуда тянуло духом плесени, лекарств.
Но со временем многое как бы перевернулось с головы на ноги. Отец умер нестарым. Тетя Зина же встала на ноги, а потом и приняла на себя заботу о семье. Не осталось даже признаков старой болезни. Она оказалась подвижной, общительной женщиной.
Борис, отслужив в армии (может быть, по возрасту, захватив конец войны), остался жить где-то на Севере. Там он женился, позже окончил медицинскую академию в Ленинграде, стал военным врачом. Приезжал в гости к маме в форме, подтянутый, ходил уверенной походкой, разговаривал со старшими с достоинством.
Младший - Олег пошел по стопам брата. Окончив 10 классов, поступил в нашу фельдшерско-акушерскую школу и работал в Орехове. С армейской службы вернулся с женой, симпатичной и доброй. Жили вместе с матерью и братом.
Люда, умница, докопалась до глубоких корней своей семьи. Она долго жила с мамой (мама ее жила долго), и та успела ей обо всем рассказать. Начинается рассказ с бабушки, Громовой Анастасии Артемовны. Я хорошо помню ее, высокую, сухопарую с правильными чертами лица, с какой-то определенностью в движениях, разговорах. Люда звала ее "бабусей".
Родилась она в 1875 году в деревне Теплое (Теплово) Владимирской губернии в семье крестьянине Миронова Артемия Логиновича. Отец имел цыганскую внешность, бабуся была похожа на него и в детстве ее дразнили "цыганкой". Прадед был барышником.
Родителей дети называли - "папаша" и "мамаша". Мамаша Татьяна Ивановна была набожной, болезненной старообрядкой, постоянно ходила с покрытой головой. Непокрытую голову не показывала даже мужу - большой грех. Папаша все больше, с лошадьми, а тяжелая крестьянская работа - на ней и на детях. Хотя были и работники: кухарка и каких-то слепых нанимали, обед им готовили отдельно, кормили хорошо. За харч вычитали.
Однажды нанялись к ним отец и сын очень бедные. Берегли каждую копеечку, отказывались столоваться у хозяев. Покупали самую дешевую селедку, обваривали ее кипятком и хлебали с черным хлебом. Хотели накопить на лошадь...
Мироновы жили в достатке. Дом каменный был только у них одних в деревне. Четверо детей - три дочери и сын - росли в строгости. Настюшка любила обедать с работниками, а папашин приказ: быть к обеду и ужину дома, хочешь - не хочешь, все равно сиди за столом - выполнялся.
Единственный сын - Федор - умер от оспы мальчиком. Приехали в деревню делать поголовную прививку от оспы, а папаша, очень любивший своего сына, спрятал его от врачей. Федя заразился все-таки оспой и умер. Отец на себе волосы рвал.
Бабуся говорила, что никогда они не видели барина и не знали его. Неизвестно, что заставило их переехать в Орехово. Поселились на Новой Стройке. Прадед нанялся на службу к Морозову подрядчиком, возил песок и кирпич на лошадях для строительства казарм. Старшая дочь Анна к тому времени была замужем за мастером по лепным украшениям, который работал с артелью в Москве.
Насте было 15 лет - подрастала невеста богатая и красавица. Она любила танцевать на купеческих балах, куда ее приглашали, знала много кадрилей. За столом ничего не ела, так как была затянута в корсет, разве только мороженое. Отец привозил наряды из Москвы. К каждому платью - соответствующие туфельки, украшения. У него был хороший вкус. Отец прочил выдать ее замуж за подрядчика или купца, конторщиков ("точены ноги") не любил. А бабуся и встретила на балу конторщика Сергея Ивановича Громова.
Старик-сосед лампой морил клопов у себя в жилище, случился пожар, огонь перекинулся на Мироновых. В суматохе вытаскивали ухваты, ведра, ерунду всякую, а дорогие вещи сгорели. Бабуся была бесстрашная, кидалась в огонь. Ей удалось спасти, швейную машинку - "поповку", которая служила нам очень долго. Она бы еще служила, да деталей уже не подберешь. Еще спасла она ножницы и щипцы для сахара.
Бабуся была неграмотная. В школе ей нравилось, но папаша считал, что женщине грамота не нужна. И взял ее из школы через несколько дней, она читать не научилась.
Дедушка Сергей Иванович окончил 4 или 5 классов, это было очень много по тем временам. Мать его была ткачихой, а бабка работала уборщицей в гостинице, которая находилась в Никольской конторе. Однажды в гостиницу приехал управляющий, бабка упала ему в ноги:
- Батюшка, устрой моего внука Сереньку в контору, он 4 класса кончил...
Управляющий обещал, и Серенька стал служащим. Сначала мальчиком на побегушках - рассыльным, потом конторщиком. Интересно, что конторщики работали стоя за "конторкой", высоким покатым столом. Все конторщики - мужчины.
Сергей Иванович был акционером, скупал акции, наживал на этом деньги. Из Москвы "свои" люди сообщали ему, какие акции купить, какие продать. Он нажил столько денег, что говорил жене:
- Я умру, ты, Настя, проживешь с детьми припеваючи.
А детей было 15. В живых осталось трое. Первенец - Толя - утонул, только что окончив гимназию с золотой медалью. Остальные умерли в младенчестве.
В голодные годы после революции дедушка с 15-летней дочерью Леной поехал на Украину за хлебом, там он умер, похоронен в Полтаве. Бабусе тогда было уже за 40. Пришлось идти работать. Доила коров на скотном дворе за 10-й служащей, потом стала ленточницей на 2-й прядильной. Работу любила, заработала пенсию.
В пятой служащей в 30-е годы в комнате 4 жили двое Громовых - Анастасия Артемовна и Шура (Александр Сергеевич), высокий, худой, черноволосый, в своих цыганских предков; четверо Пожаровых - Иван Петрович, Юлия Сергеевна, Люда и Леля. Бабуся учила, выводила в люди младшего Шуру. Он незадолго до войны окончил торфяной техникум и уехал работать в Подольск. Бабуся уже не работала, жила на пенсию. Помогала семье дочери Юлии тем, что одевала-обувала, кормила младшую Лелю, присматривала и приучала к делам Люду: "Благодаря бабушкиной неустанной энергии мы остались живы в войну". Она умерла в подмосковном городе Гучкове (теперь Дедовск), где жила у другой дочери, Лены, помогая нянчить внучкину дочку. Утонула в пруду в возрасте 77 лет.
Разговаривала она по-владимирски, на "то". Речь ее была пересыпана пословицами, поговорками, она знала наизусть несколько стихотворений - выучила от своих детей, когда они твердили уроки. Вечерами мы читали книги вслух, особенно хорошо читала мама. Бабусе очень нравилась "Война и мир", ее без конца перечитывали. Перечитывали по нескольку раз "Мертвые души" и "Шинель", "Маленькие трагедии" Пушкина. Стихи Пушкина любил декламировать Шура.
Иван Петрович Пожаров (Людин папа) рано остался без радостей. Отец, смотритель на фабрике, ослеп. Мать умерла от голода в первую мировую войну, когда сын был на фронте. Иван Петрович служил сначала в царской армии солдатом, а потом стал красноармейцем, когда армия перешла на сторону революции. Возвратился домой - устроился конторщиком на красилку. Там же работала Юлия Сергеевна, будущая Людина мама. Они венчались в Войнове. Время было трудное: белое платье дала подруга, угощение - лепешечки из муки, вина не было. А прожили они очень хорошо, дружно. Помешала проклятая война.
Насколько я запомнила его, Людин папа - человек очень добрый, мягкий, домашний, расположенный к детям. И большой фантазер, любивший делиться своими фантазиями с нами и поддерживавший нас. Ах, какие планы мы строили вместе в ожидании огородных участков у 3-й будки: мы там пруды сооружали с "золотыми" рыбками и беседки строили, и оранжерея с необыкновенными растениями.
Он умер в 1947 году от больного сердца. Семье стало еще труднее переживать лихолетье.
В Людиной семье сохранились воспоминания о порядках в казарме, бытовавших еще в старые - морозовские времена. Люда слышала от мамы, что самым страшным наказанием для живущих в казармах было выселение на "вольную квартиру" за провинности. Порядки были строгие. Вокруг казармы - забор. Сторож присматривает и днем, чтобы не появились посторонние, а ночью ходит с колотушкой (так долгое время называлась городская газета, еще и я ее читала, потом переименовали в "Большевик", в начале 50-х гг. она стала "Орехово-Зуевской правдой", и то, и другое - стандарт, бесчувствие к языку, зато - в общем русле...) За порядком внутри казармы смотрел хожалый (о нем иногда вспоминал и мой папа): чтобы дети не баловались, не лили зря воду из кранов, не шумели, не сорили. Запрещалось женщинам стирать в кухне - для того баня.
Сушилки были на галдарейках, на каждом этаже. На вешалах на улице летом сохли выстиранные половики и одеяла. Для каждой семьи выдавались бесплатные талоны в баню, определенное количество на месяц. На катках в кухне стояли глиняные пирожные банки с пирогами и другая еда. Воровства и баловства не было. Женщины частенько пекли общий пирог, "ставили" самовар и вместе пили чай на кухне за сдвинутыми столами. Около печки стояло ведро с древесным углем, который специально привозили для утюга и самоваров. (Не покупали каждый себе, как потом).
При Морозовых были торговые лавки - розницы. Продукты в них отпускались по заборным книжкам (от слова "забирать"), в кредит, потом эта сумма вычиталась из зарплаты.
Люда пишет со слов мамы: "Какой-то Митрич периодически привозил на ручной тележке провизию из морозовских лавок, отмечал в заборных книжках, получал заказы для следующего раза. Привезенное складывал на окно под лестницей около чулана. Хозяйки разбирали свои продукты. И ждали следующего приезда Митрича".
Жизнь самой Люды в военные и послевоенные годы складывалась не гладко, даже трудно. Доходы у семьи были маленькие. Побочных заработков никаких. Умер отец. Остались четверо женщин, двое из них дети, Леле лет 6-7. Бабусина пенсия, мамина крошечная зарплата. Продукты по карточкам - можно умереть с голоду. А буханка хлеба на рынке - 100 рублей, 200, 300.
Люда все-таки окончила 10 классов, поступила в институт, но тяжелые условия, неприспособленность к жизни вытолкнули ее из этой колеи. Люда вернулась домой из Ленинграда (куда перетянули московских абитуриентов). Выучилась на продавца. Помню ее за прилавком рыбного магазина в Орехове. Вот уж кто не подходил к этой профессии (или профессия к ней). Вскоре бросила. Сменила еще несколько работ. А жилось еще тяжело. Вышла замуж, родила сына Женю. Дочка Ирина - ровесница моей Марийки, мы вместе "дышали воздухом" в скверике под нашими окнами и родили с разницей в несколько дней. Позже Люда окончила текстильный техникум, из фабрики перешла на другое предприятие, где доработала до пенсии.
Людочка моя плохо видит, носит очень сильные очки. Есть еще болезни. Неудачно сложились отношения с сыном и невесткой. Пришлось разменять квартиру. Молодежь совсем не знается с матерью, отцом, Ирой. И двух внучек отлучили от них.
О каждом из соседей можно сказать что-нибудь интересное, найти корни. Но мы не всех знали близко, а только тех, кто жил рядом, или родителей своих товарищей или особенно заметных, вроде Шуры Благовой.
Бахуленковы Василий Васильевич и Анна Петровна - дядя Вася и тетя Нюра.
Дядя Вася работал на фабрике. Высокий, белокурый, круглолицый, полноватый. Немножко флегматичный. Помогал жене по хозяйству, таская сковородки и тазы, участвовал в общих делах жителей, был членом совсода.
Основные заботы о семье, о троих ребятишках лежали на тете Нюре. Она быстрая. Успевала, придя с работы вечером, пробежав по коридору несколько раз из комнаты в кухню и обратно, накормить детей, навести порядок (который никогда не был идеальным) и, часто бросив дела насущные, спешила во Дворец культуры на репетицию драмкружка, пристрастие к которому сохраняла до солидного возраста. Последняя ее работа на сцене - Анна в "На дне" Горького, ей было тогда под 50. Молодая тетя Нюра в новогоднюю ночь могла нарядиться в смешной костюм, иногда мужской, приклеить усы, нарумянить щеки и пройти в группе ряженых по коридорам, показать смешную сценку.
Мы вместе ходили на работу в Дом Советов, где располагались наши учреждения - ее отдел коммунального хозяйства и моя редакция. По дороге обо всем говорили как равные по возрасту (а ее Юра, старший, был на два года моложе меня). Молодой дух сохранялся в ней постоянно, что определило ее как человека легкого в общении, к тому же - участливого, доброжелательного.
Сейчас ей за 80. Она живет со старшей дочерью Ниной на улице Бирюкова, где получила квартиру после расселения 5-й служащей. Нина - учитель словесности, предана своей профессии. Была в командировке на Кубе, учила русскому языку кубинских суворовцев в Гаване. В 70-е годы после института она работала пионервожатой в 1-й школе и по ее инициативе тогда перед фасадом школы сооружен обелиск с именами выпускников, погибших на войне, среди них те, кто жил в нашей казарме.
А тетя Нюра теряет зрение, но не теряет энергии, чтобы заниматься теперь уже правнуками, работает на садовом участке. Я пишу ей изредка. Она дружила с мамой, и я считаю ее своим другом.
Ильины - Полина Филатьевна, Иван Семенович, Руфа - на два года старше меня, Женя - еще старше.
В 1937 году Ивана Семеновича "взяли" (так говорили) как бывшего офицера царской армии, и тетя Полина осталась с детьми одна. Нужно было их растить (обувать, одевать, кормить), учить. Тетя Полина жила без мужа достойно. Она была хорошей портнихой, работала в лучшем ателье города, в Орехове. И шила людям, к ней обращались не только жители нашей казармы. Перед войной Иван Семенович вернулся, но ненадолго: началась война, его сразу забрали на фронт, и скоро Ильины получили известие о его гибели.
Жизнь продолжалась. Тяжкие годы семья перенесла благополучие многих. Опять выручало портняжное мастерство тети Полины: за платье или костюм приносили продукты, оказывали услуги. Моя мама иногда брала у нее белье в стирку, окучивала картошку на огороде - за это она сшила мне несколько нарядов.
Последние годы тете Полине отказывали ноги, сердце. Грузная фигура еле двигалась по коридору с остановками для отдыха. Женя побывал на войне, по специальности он был медик, фельдшер. С работой не заладилось, так как стал он выпивать. Жена взяла развод. Он уехал на Север, там погиб молодым, где-то замерз в тундре нетрезвый.
Руфа выучилась сначала на медика, потом окончила педагогический институт. Работала в Электростали, каждый выходной приезжала домой. После неблагоприятно протекавшего ревмокардита много лет назад стала инвалидом, живет на небольшую пенсию, часто посещая врачей и больницы. Она получила комнату в общей квартире на Кировском поселке...
Все Благовы были очень высокого роста. Но Шура переросла родителей, а по сравнению с другими была выше даже не на голову, а на две.
Сам Благов - конторщик старых времен, человек скромный, тихий. Екатерина Ивановна занималась хозяйством, рукодельничала, шила. Это к ней я бегала на примерки двух сатиновых платьев в горошек, которые так любила. Она отличалась солидностью фигуры, громким голосом и пристрастием посудачить о соседях.
Жили Благовы в достатке, дома было уютно, множество безделушек на комоде и на стенах. Пахло нафталином. На двери - белая овальная фарфоровая табличка с фамилией хозяина, выведенной черной тушью с завитками заглавных букв.
Шура высокая и прямая. Светлые волосы подстрижены "в кружок". Удлиненное лицо с крупными чертами. Громкий, низкий голос. Характер у нее боевой, напористый, вездесущий. Она активно проявляла себя в нашем житейском коллективе, была членом совсода, непременным участником самодеятельности. И собеседник она была любопытный, не обделенный чувством юмора. И на любой счет имела свое мнение, защищавшее, в первую очередь, ее личные интересы, за что ее и не принимали всерьез, относились с долей иронии.
Яков Елисеевич Матвеев был человек очень начитанный. По профессии он бухгалтер. Лидия Васильевна, его жена - болезненная, сильно близорукая. У них три дочери - старшая Соня. Галя и Надя, моя ровесница, одноклассница все школьные годы, а последние два года и соседка по парте, потом близкая подруга, взрослая жизнь которой проходила на моих глазах. Якова Елисеевича вижу как сейчас: среднего роста, крупная, гладкая выбритая голова, умные глаза, энергичная речь, широкая походка. Он - единственный из всех - носил краги, поверх ботинок ("накладные кожаные голенища" - из "Словаря русского языка"), обрисовывающие икры и доходящие почти до колен. Что они означали для него, и зачем он их надевал, не могу себе объяснить. Но это была его принадлежность в течение нескольких лет - блестящие коричневые краги.
Яков Елисеевич - самый активный председатель нашего совсода, при нем осуществлялись интересные дела.
Свою начитанность он реализовал и в семье, серьезно взявшись за воспитание дочерей, когда они были уже школьницами. В небогатой их комнате у дверей стоял большой круглый жестяной таз с низкими бортами - им пользовались для принятия водных процедур, обливаний. На перегородке лицом к свету висел фанерный трафарет, на котором выжжено название домашней газеты, что-то вроде "Наша жизнь" или "Наша семья", к которому крепились написанные от руки заметки. В них сообщалось, кто как из детей учится, как себя ведет, чем помогает дома.
Газета существовала недолго. Долго стоял у порога только таз, им пользовался один Яков Елисеевич.
Девочки и без того росли умные, любознательные. Соня - более спокойная, Галя - бойкая, любившая командовать и распоряжаться в играх. Про Надю наша учительница в первом классе сказала: "Мал золотник, да дорог" - она была тогда небольшого роста, но бегло читала, быстро считала, и я у нее подсматривала результаты счета, сидя на парте за ее спиной.
В войну Матвеевы не бедствовали. Яков Елисеевич убежал из голодного города в деревню, устроился бухгалтером в колхозе. Летом комната их пустовала - все уезжали в Марково, работали там и у себя на участке, и на колхозном поле. Получали на трудодни. С осени в комнате на третьем этаже при входе лежала большая груда картошки, самого желанного после хлеба продукта. Для нее делался деревянный загон. Это был предмет зависти не только моей, я думаю.
Война кончилась, и Яков Елисеевич еще оставался в колхозе, Соня уже была замужем, Галя и Надя учились в институтах. Надя поступила в медицинский в Иванове, так как в Москве не было общежития, а на оплату "вольных квартир" мы все не рассчитывали. И вдруг - беда: Якова Елисеевича осудили за растрату.
Старшие сестры остались на своих стезях, а Наде пришлось бросить институт, расстаться с мечтой стать врачом (а она мечтала, стремилась, упорно готовилась) и вернуться в Орехово-Зуево, чтобы не оставлять одну беспомощную маму. Обе пошли на фабрику, на неквалифицированную, низко оплачиваемую работу. Лидия Васильевна, до того не работавшая, заработала себе пенсию, жила до глубокой старости.
Яков Елисеевич вернулся, работал по специальности, умер после операции по недосмотру врачей.
А Надя вскоре повстречала на танцах во Дворце Сашу, Александра Михайловича Курова, художника, одного из будущих авторов картины "Морозовская стачка", которая, к сожалению, хранится не в Орехове, как память о событии, происшедшем здесь, а где-то в Саратове. Они поженились, жили с его мамой в 10-й казарме.
Окончила Надя уже не мед- , а пединститут, преподавала историю, родила двух дочек. Болезнь заставила ее переменить занятие, ей поручили заведование городской фильмотекой. С увлечением и выдумкой она повела дело, оказалась и хорошим администратором, и умелым методистом, организатором. К ней приезжали за опытом из многих городов, она выступала с докладами на специальных совещаниях. Работа была в удовольствие. Но болезнь стукнула еще, и на этот раз пришлось оставить работу совсем. А сейчас - больницы, недомогания, апатия. И уже весточки приходят от случая к случаю. Мой визит к ней - первая необходимость. Саши нет в живых, девочки живут отдельно.
Медная дощечка с черной тонкой гравировкой оповещала, что в комнате 2 живет Монин Гавриил Николаевич. Это мой дедушка. Он был механиком по текстильным машинам, хорошо знающим свое дело, - так сказал мне двоюродный брат Павел, который лучше помнил дедушку, так как был на целых 12 лет старше меня.
На молодом портрете у него привлекательное энергичное лицо, худощавое, с короткой стрижкой волос, небольшими усиками. Каким он был человеком, затрудняюсь сказать, просто не знаю, так как он умер скоропостижно, когда мне было три года.
Бабушка была из мещан, очевидно, так как о родственниках в деревне или в других сословиях я никогда не слышала.
Круглолицая, сероглазая, среднего роста, средней полноты. Набожная - ходила в церковь, читала священные книги. Перед сном долго молилась, стоя у иконы, преклоняла колени, опускалась на маленький коврик. Одежду носила темного цвета, на улице - обязательно платок, завязанный узелком у подбородка. Спала в повойнике, подбирая туда седые волосы, собранные в пучок. Питалась отдельно. Из торгсина в голодные годы приносила продукты - крупу, масло, с нами не делилась. Только угощала иногда кашей или супом. Помню бабушкину гречневую "кашичку" с грибами, на постном масле - она ела ее постом. И желтую, хорошо сдобренную маслом, сладкую, с румяной корочкой (из русской печки) пшенную кашу.
С нами, детьми, она не занималась. Любила больше покладистого Борю, а я в свой адрес часто слышала слово "басурманка", означавшее ее недовольство. Она пережила дедушку на 9 лет.
Мама с папой познакомились на свадьбе у своих друзей. В церкви они не венчались - папа держался передовых взглядов. Была симпатия, привязанность, любовь. Папа - красивый, мама - "милая". Жили дружно, хотя папа бывал и упрямым, и настойчивым, а мама не податлива без разбору.
Тяжело мы пережили войну, приходилось выкручиваться, чтобы не пропасть с голоду. Спасали огороды, тетя Марфуша и старинные вещи из сундука. Выкрутились, пережили, но тут-то и обрушилось на нас самое страшное горе - смерть Бори, жестокая, бессмысленная, ужасная. Папа поехал в Увельку один, я не отходила от мамы. Она обо всем догадалась, и я не утешала ее, только молчала рядом.
Другим тяжелым переживанием для родителей была моя операция, на которую я не могла решиться четыре года. Ожидание ее и мои сборы стали толчками, вызвавшими у папы неизлечимую болезнь, от которой он умер 29 декабря 1967 года. Операция состоялась 5 апреля 1967 года, после нее я живу 24-й год, мама жила после папы еще 7 лет, умерла она от инсульта.
Папа окончил вечерний текстильный техникум, работал почти всю жизнь на БПФ №2. Мама - медицинская сестра. Папины пристрастия - газеты, радио, природа. Не умел мастерить и делать что-то своими руками. Мама охотно занималась домом, детьми. Любила вязать крючком - кружева для подзоров к кроватям, накомодники (почему-то не просто было вязать кофточки, носильные вещи) - из белых катушечных ниток. И штопала просто, и чулок хватало. В доме всегда был порядок, чистота, свежий воздух. Вкусно готовила, хотя еда была простая, неприхотливая.
Не было такой комнаты в коридоре, где бы мы, дети, не побывали. У кого-то мы были почти членами семьи - как я у Пожаровых и Бодровых или Люда у нас. Правда, таких примеров я больше не знаю. У одних подружек подолгу играли, особенно когда родителей не было дома, к другим ненадолго заходили. Кому-то не разрешали "пускать" - тогда делали это тайком. Бездетные пожилые сестры Поликарповы приглашали неизвестно зачем, просто так. Мы заходили, вежливо сидели, оглядываясь кругом. Нам дарили за это коробочки, пузырьки.
И все было бы прекрасно и безоблачно в моей детской жизни, если бы ее не омрачали болезни и смерти соседей. Мама работала в больнице, часто брала меня на дежурство (по простоте тогдашних обычаев), а я как огня боялась "Скорой помощи" и белых похоронных катафалков. Пугали люди в белых халатах, которые могли быть рядом со смертью. Пугала музыка траурных оркестров. Но самый большой страх вызывала у меня крышка гроба, выставленная в коридоре у двери умершего. Мимо нее я могла пройти только закрыв глаза, держась за маму или подругу. Лучше отсидеться дома, а через сени пройти с попутчиком. Я и к умершей бабушке не смогла подойти, вцепилась в дверь, когда меня пытались втащить насильно.
К мысли о смерти я привыкла совсем взрослой, когда стала терять самых близких людей. Конечность свою, личную, я почувствовала прекрасным летним днем, когда на медицинском осмотре перед поездкой в лагерь мне сказали: "У тебя порок сердца". И день померк. Я долго плакала, потом успокоилась, понятие о больном сердце отошло на второй план - стала осторожнее бегать, меньше прыгать.
Были и мелкие неприятности, вроде наказаний. Во многих семьях пользовались ремнем, у кого-то это было системой. Нам с Борей тоже иногда доставалось - ему чаще, как мальчику: не кури, не ругайся. Меня отлупили пару раз. Радикальная мера. Если полегче - шлепали, запирали на ключ в комнате.
Случались ссоры с подругами, а иногда и драки. Ух, какой злой была в драке Любка Карташова. Или Зойка Ляпунова. А я драться не умела. Однажды, рассердившись на Люду, я облила ее жидкой глиной. Зачем-то я ложечкой мешала ее с водой в металлической кружке, на улице.
Проходили дни - похожие, привычные. Но в свой черед наступали праздники.
К празднику шилось новое платье. В нем нужно было появиться вечером на площадке второго этажа. Это были недорогие наряды, их потом носили в будни, но первый выход - на праздник. Так у меня появилась однажды два сатиновых платья сразу - черное и синее, оба в мелкий белый горошек, почти точечный. После они стали школьными, я их очень любила, особенно черное с клешеной юбочкой. К платьям для школы пришивался белый воротник.
За два-три дня до торжественной даты вечером собирались по нескольку человек и шли на Ленинскую "смотреть огоньки". Организаторы иллюминаций не обманывали наших ожиданий, всегда придумывали что-нибудь новое, любопытное, возле чего мы останавливались и подолгу зачарованно смотрели. У отбельно-красильной фабрики выставили как-то женскую фигуру, во весь рост (муляж, фанера, свет), позади стенда протягивалась полоса разнообразных тканей - зрители видели смену платьев на женщине, то есть продукцию фабрики, "выбирали", кому что нравится. Придя домой, все обсуждали, рассказывали тем, кто еще не видел.
Дома - последние приготовления. Сделана уборка с обмахиванием пыли и паутины на высоких потолках, постирана занавеска на окне. Под кроватями перетерты все коробки, корзины, бутылки. Вымыты полы. На комоде - чистый накомодник. Выстираны, поглажены кружевные подзоры - все накануне повешено и положено на свои места. С вечера (совсем поздно, чтобы не перестояло) поставлено тесто, и уже распространяется по комнате его запах. Нужно только переспать ночь.
А утром, наскоро поев только что испеченных "на жару" пирогов и лепешек, - скорее на улицу, в многолюдье демонстрантов и зрителей, в шум оркестров, в ритм маршей песен, в кумач флагов и транспарантов.
Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля,
Просыпается с рассветом
Вся советская земля.
Холодок бежит за ворот,
Шум на улицах сильней,
С добрым утром, милый город.
Сердце Родины моей.
Кипучая, могучая,
Никем не победимая
Страна моя, Москва моя,
Ты самая любимая.
Это "Москва майская". Лебедев-Кумач и Дунаевский отразили дух времени: энтузиазм, стремление к новой жизни.
Нас учили жить ради идеалов, во имя идеалов, нас манили ими, и мы уверовали в них (сначала наши родители, а потом мы). Уверовали в идеалы, а верили Сталину, его окружению, их правоте во всем - и в делах, и в нравственности. Верили в свою страну и в свое необыкновенное счастье родиться и жить в СССР.
Оптимизм времени определился верой в то, что у нас - все будет. Не так, как было до революции, при капиталистах, не так, как за границей у буржуев. Все будет по-новому - справедливо, красиво. И мы мирились с тесными жилищами, очередями в магазинах, поездками в Москву за необходимыми продуктами. Были неприхотливы во всем. Потом война примирила нас с еще большими тяготами существования, с потерями. После войны нехваткам опять нашли оправдание. А потом - "погрешности" в руководстве страной, и мы опять не узнали, что же такое "цивилизованная" жизнь достойного человека. И до сих пор не знаем ни в производстве, ни в обслуживании, ни в быту. И, видно, трудная и долгая дорога нам предстоит, чтобы выйти на нужный путь.
Конечно, самый светлый и радостный праздник - Первомай. Потому что - солнце. Тепло и вольготно. И все нарядные, улыбающиеся. И демонстрация пестрит всеми цветами радуги. А впереди - вкусное застолье, праздничный вечер с подарками, настоящее веселье.
Младшей школьницей, когда сама я еще не доросла до этого, была свидетельницей сентябрьских шествий молодежи по случаю МЮДа, международного юношеского дня. Колонны из двух школ - 1-й и 14-й - проходили мимо наших окон. В темноте вечера высоко над головами горели факелы. А потом этот праздник отменили в связи с изменениями в международной обстановке.
Праздничное вечернее торжество начиналось с призывных маршевых звуков баяна. Баянист, пока в одиночестве, сидел у трубы на площадке второго этажа и на всю ширину разводил меха, энергично нажимая на кнопки, низко склонив к ним голову одним боком, будто, если не наклонит ее, он и не услышит, что играет. А его было слышно на всех этажах.
Все давно ждали этого момента - площадка заполняется мгновенно. Нарядные дети - первые участники праздника и нарядные взрослые: женщины припудренные, с накрашенными губами (косметика фирмы ТЭЖЭ - треста эфиро-жировых экстрактов), мужчины выбритые, в парадных костюмах, при галстуках.
Дети получают пакетики с гостинцами (деньги на них заранее собраны с каждой семьи в дополнение к тем, что выделили шефы). Разносят их по домам.
Малышня с бабушками, дедушками - те, кто не участвовал в кружках, гости - уже сидят на принесенных стульях. Много зрителей стоят у стен. Сцена - пространство перед красным уголком. Кто-то уже успевал протянуть занавес между трубами. Закулисье - рукав коридора справа от зрителя. Раздевалка-одевалка, место для подготовки кружковцев - красный уголок.
Сначала детский концерт. Выходил хор, и тут впервые перед зрителями появлялся Виктор Владимирович Дружинин, наш дирижер и руководитель. Он был выше каждого из нас раза в два. Поджарый, в очень сильных очках. Мягкие светлые волосы падали на лоб, и он часто откидывал голову, чтобы убрать мешавшую прядь. Он раздвигал руки, призывал нас к вниманию, слышалось носовое мычание - дававшее нам настрой. Мы смотрим снизу вверх в полной готовности, заиграл баян, руки Виктора Владимировича пришли в движение - мы поем...
В те годы любой концерт - самодеятельный или профессиональный, взрослый или детский - начинался песней о Сталине. Таких песен было много, мы их хорошо знали. И мелодии у них - распевные, легко запоминающиеся, полнозвучные. И слова - простые, доступные. Все располагало к массовому заучиванию.
После хора - выступление "студий", которых было две. Занимались в них преимущественно девочки: помладше под руководством Гали Матвеевой, постарше - Лиды Шевагорновой.
Галя (на год старше меня) - прирожденный командир. Она распоряжалась в играх, а если кто возражал, отсекала: "Ты с нами не играешь". И тут уж никто не смел заступиться за отторгнутого. В ее "студии" царили те же порядки. Но инициативы и выдумки ей было не занимать.
Лида - повзрослев, спокойная, из многодетной семьи. Она мне нравилась, и я ходила к ней. А главное, потому что не любила, когда мной командовали.
У всех студийцев спортивная форма: короткие сатиновые шаровары, белые блузки. Репертуар приблизительно одинаковый. Обязательно готовили физические упражнения и пирамиду: Под тихую музыку баяна и команды руководительницы "Делай раз! Делай два!" происходили построения: кто-то садился, кто-то подставлял колено, а один взбирался на самый верх, вытягивался в красивой позе, а потом по команде "Пирамида, рушь!" сооружение рассыпалось, и все расходились под уже громко звучащий марш.
Концерт продолжался. Двое-трое-четверо ребят исполняли матросский танец "Яблочко", показывая, как матросы тянут канат, лазают по веревочным лестницам, смотрят из-под "козырька" ладони в "морскую даль".
На Новый год обязательно исполняли коллективный танец "Снежинки", припевая:
Мы белые снежиночки,
Собралися сюда,
Летим мы как пушиночки,
Холодные всегда,
Вот эта тучка белая,
Она была наш дом.
С нее мы опустилися,
И здесь мы отдохнем.
Зрителей развлекают чтецы, песенники. Кто что может. Любому предоставляется сцена, только нужно подойти к Виктору Владимировичу и пошептаться с ним на ушко. Мила Черкасова читает распевный стишок на якобы французском языке. Помню до сих пор! Надо же было так крепко засесть в башке этому набору звуков! Это Милке передал остатки своих знаний папа, прошедший несколько классов гимназии.
Кто-то, выбегал с "Лезгинкой" и обязательным "Асса!". Люда вспоминает, что она тоже однажды прочла стихотворение - при ее-то стеснительности. Значит, действительно была хорошая, добрая атмосфера, и ребенок не думал, что он делает что-то не так. Люда говорит, что каждому осмелившемуся выступить давали приз: игрушечные вожжи, прыгалки, игру (Люде досталась коробочка со стеклянной крышкой и шариками внутри).
Дети "навыступались". Перерыв. Публика расходится по домам, оставив на месте стулья и табуретки, артисты тоже - всем нужно отдохнуть.
А потом "взрослый" концерт. Его тоже открывает хор. И хора ведь было два. Первый для среднего поколения, им тоже руководил Виктор Владимирович. И был хор пожилых старичков - он исполнял русские народные песни. Управлял им Иван Аверьянович Кузнецов, строгий и неулыбчивый отец Нинки Кузнецовой, худой, почти лысый, в очках. Старички пели "Перевоз Дуня держала", "В темном лесе", веселые частушки: "Зиночка с корзиночками ходила по грибы, сбилася с дороженьки - попала не туды". Солистка, приплясывая перед хором, выпевала: "Девки, где вы?", хор отвечал: "Тута; Тута!". Солистка: "А моя Марфута почему не тута?"
Дальше в программе - самые разнообразные номера и жанры. Люда вспоминает Егоровых - отца и трех сыновей, выступавших "с акробатическим этюдом и раскладушкой" (служившей им спортивным снарядом).
"Мастерства было мало, а смеху!.." - из Людиного письма.
Женька Ильин изображал Чарли Чаплина, Люся Ломтева читала стихи голосом Рины Зеленой. Шура Благова шумно с размашистыми жестами рассказывала что-то юмористическое, наполовину сочиненное ею самой. Т.В.Елесина, мать троих детей, отплясывала, припевая: "А я маленькая, аккуратненькая..." Она в самом деле была маленькая.
Шуточная атмосфера сменялась серьезной, когда наступал черед классического репертуара.
А.В.Гусева - нарядная, с завитыми на щипцах волосами, накрашенными губами, напудренная - как настоящая артистка - выходила с тетрадкой и пела Третью песню Леля: "Туча со громом сговаривалась"... и арию Кумы - "Как на нашей улице муж жену учил".
Зоя Кузнецова, исполнительница партии Татьяны в самодеятельном спектакле Дворца культуры, пела "Письмо Татьяны". Была солисткой и Надя Темина, девочка чуть постарше нас с Людой.
Но самую бурную реакцию всегда вызывало выступление Ивана Васильевича Зубцовского. У него был большой репертуар. Учился ли он где? Навыки и манеры певца у него были. А голоса не было. Может быть, пропал от какой-то случайности. Осталось огромное желание петь. И он пел, никогда не отказывался, когда его просили, и как будто забывал о тех смешках и свисте, которые сопровождали предыдущие неудавшиеся выступления, снова делал попытку - и снова срывался голос, ария прерывалась. Он откашливался в кулак, не уходя со сцены, не обращая внимания на реакцию зрителей, и пел до конца.
И все-таки, несмотря на все несовершенство, просвещал нас, знакомил с настоящей музыкой. Милый, беззащитный, несостоявшийся певец. Служил на небольшой конторской должности и жил вместе с одинокой сестрой и женой. Ходил с сеткой из магазина, с кастрюлей из кухни, с чайником из куба. Какие мечты были похоронены в этом человеке. В кличке "Козловский", которой его вызывали, ему не виделось ничего обидного. Выходил и пел - как мог, как умел.
Но вот исчерпан индивидуальный творческий потенциал - закончился концерт. Зрители опять разошлись - подкрепиться, выпить чаю или более крепкого напитка. (Но пьяных мы никогда не видели). Площадка очистилась от стульев, она теперь свободна для общего веселья, хороводов, танцев.
И это веселье тоже начинают дети. От этого момента и до окончания праздника далеко за полночь стержнем его, вокруг которого все движется, крутится, на который устремлено внимание, от которого зависит настроение всех собравшихся и то, что мы будем петь и танцевать, и как мы будем это делать, становится Виктор Владимирович Дружинин.
Была когда-то должность массовика-затейника в домах культуры и в домах отдыха. А люди все равно жаловались на скуку.
Виктора Владимировича никто не обязывал проводить наши вечера и веселить жителей и их гостей. Он все это делал потому, что был прирожденным массовиком-затейником.
Он жил у нас на втором этаже. Жена тетя Маруся, как и он, сильно близорукая, работала в швейной мастерской. Три сына: старший - на год моложе меня - круглолицый, курносый, розовощекий Вовка; второй - Лешка, худощавый, длиннолицый, совсем не похожий на брата; третий - много моложе. Мальчишки росли без особого призору, как многие из нас, целый день, пока родители на работе, предоставлены самим себе и окружению. Из старшего вырос обыкновенный человек: школу он окончил в трудные годы и пошел в повара (наголодавшись в войну, мы все хотели быть сытыми). Выучился, работал в общественном питании.
А у Лешки очень рано стали проявляться музыкальные способности. Он сел за баян, когда голова его еле-еле выглядывала над раздвигающимися мехами. Учился ли он где или самоучкой постигал инструмент, не знаю. Но стал он скоро первоклассным баянистом. Нот перед собой никогда не держал, играл наизусть все: и классические пьесы и массовые танцы (краковяк, падеспань, вальс), и новые песни, только что услышанные в кино или по радио. И как играл - не ошибаясь. Выполнял любой заказ, никогда не говорил, что чего-то не может, не знает. Так и стал на наших вечерах играть свой, а не приглашенный, как раньше, баянист.
Он тоже, как и отец, любил свое дело и молча высиживал со своим баяном долгие часы праздника.
Виктор Владимирович - не только душа и организатор наших праздничных вечеров. Он несколько сроков возглавлял наш совсод (выборная должность - председатель), то есть был организатором всей общественно-полезной и культурной жизни казармы. При нем устраивались семейные вылазки "за домики" с самоварами и качелями, детей возили на экскурсии в Москву, приглашали детский хор выступать по местному радио, действовал летний пионерский лагерь.
У него тоже не было высшего образования. Не знаю, где он работал до войны. Войну пережил трудно - голодал, как все. Встречала его с опухшим лицом, тяжелыми синими мешками под глазами, потерявшим былую легкость. После войны он некоторое время работал управдомом, управлял и нашей казармой. Общая совместная жизнь к тому времени заглохла, о праздничных вечерах никто не думал, и Виктор Владимирович, естественно, уже не выступал в прежней роли. Как протекала дальше его жизнь, мне неизвестно.
Люда утверждает, что он был хорошим педагогом. Он умел думать и заботиться о людях, о детях особенно. В пустом подвале, бывшей котельной (когда построили ТЭЦ, нас перевели на теплоснабжение от нее), по его инициативе организовали столярную мастерскую, и мальчишки-подростки ходили туда мастерить. В основном это были "трудные". А хор, его детище? Тоже требовались навыки педагога, чтобы нас организовать и с нами справляться. А поощрительные призы на праздник? Подобного ему организатора у нас больше не было.
У детей были свои танцы, солидный интернациональный репертуар: "татарочка", "гопак", "лезгинка", хороводные - "Во саду ли, в огороде"...
Парными танцами были "полька", "краковяк", общими - "яблочко" и какая-то "Пионерская тарантелла", про которую вспомнила Люда. Еще танцевали вальс "Миньон" (музыка Массне из оперы "Манон"), водили хоровод под музыку "Рондо" Моцарта и "Турецкого марша" Бетховена, конечно, ничего не зная ни о Массне, ни о Бетховене - хорошо, если слышали о них.
Быстро летит время, наступают неумолимые девять часов, кончается детский праздник. Все! По домам, спать, спать. Теперь уж члены совсода будут строго смотреть, чтобы дети соблюдали режим и не мешались под ногами. Но детям уходить не хочется, и они, прячась за спины взрослых или стоя где-нибудь в уголочке, превращаются в зрителей и смотрят на веселье взрослых. Иногда бойкая пара девчонок войдет во взрослый круг, пытаясь быть наравне, но ее быстро выпроваживают.
Перед войной стали входить в моду "западные" танцы - танго, фокстрот, и в красном уголке открылась школа для обучения. Мои родители ходили. Потом все это само собой вошло в наши праздничные вечера. Мы, дети, тоже подражали взрослым.
После фильма "Веселые ребята" придумали танец "Черная стрелка". Его разучили прямо на площадке под руководством Виктора Владимировича и одной из его партнерш, скорее всего Гали Елесиной.
Но коронным был всегда вальс. Его все любили. Тут уж никто ничего не показывал. Все кружилось, улыбалось, плыло. Баянист играл "Березку", "Дунайские волны", "На сопках Манчжурии"...
К новогоднему празднику привозили красивую ель - до потолка. Сначала она лежала на полу, и мы прибегали на нее посмотреть. Потом стояла, но еще пустая, темная. А в нужный момент горела и сверкала в центре нашего "зала", все той же площадки, и хороводы водили вокруг нее - пахучей, нарядной.
На Новый год обязательно появлялись ряженые. Они ходили кучкой. Мужчины часто надевали женский наряд, а женщины, наоборот, мужской. Интересно было узнавать, кто есть кто. Солидная Ксения Семеновна Алексеева представляла Барыню: пышная юбка до полу, бусы, броши, в руках светлый зонтик от солнца, каких в наше время уже не было в помине и никто с такими не ходил. Зонтик то открывался, то закрывался. На щеках яркие румяна, брови и глаза подведены углем, губы густо накрашены. Неторопливая походка, вихляющий зад, на который положены маленькие подушки.
Выдумщица тетя Нюра Вахуленкова наряжалась то Красной Шапочкой, то врачом. Не сразу узнаешь, кто же там под маской, и чье лицо спрятано под нахлобученной шапкой или кисеей.
Приходили ряженые из других казарм и наши ходили к ним. Такие же затейливые праздничные вечера были в 6-й служащей, где жили два папиных старших брата - дядя Паня и дядя Вася.
Ставить елку дома было не принято. Оказывается, это не поощрялось государством, считалось пережитком прошлого, напрямую связывалось с церковным праздником Рождества Христова.
Из Людиного письма. "Помню, в эту прекрасную зиму на Новый год елок еще не разрешалось рядить. Во втором этаже в простенке около кухни висела стенгазета, в которой подвергались нападкам те семьи, в которых торжествовал мещанский обычай рядить елку. Такой участи подверглись Черкасовы, и я их считала чуть ли не врагами народа. Там еще рисунок был такой: елка красивая, а около нее стоят человечки и ее рядят. Мне страстно захотелось рядить елку. Впоследствии, когда разрешили справлять старый обычай, я все свои скудные средства, данные родителями на морс и мороженое, тратила на елочные игрушки. Они хранились у нас в коробочке на перегородке, и мы с Олей время от времени снимали коробку, раскладывали "драгоценности" и долго их разглядывали".
У нас дома елки так и не появились: то ли папа следовал строгим предписаниям, то ли считал, что достаточно той, на втором этаже для всех.
Зато какая елка была у Бодровых! У них уже росли внучки, а игрушки оставались еще Лелины. Они были золотые, серебряные, нежных голубых и розовых расцветок. Шары с "инеем", стеклянные разноцветные бусы. А среди фигурок - ватные ангелы с крыльями. И свечи! Такой елки больше ни у кого не было. Особенно впечатляли эти сокровища, когда они лежали в большой коробке, и можно было их потрогать. Обычные же елки украшались гирляндами бумажных флажков, орехами в фольге, хлопушками, самодельными рожицами из яичной скорлупы, вырезанными из бумаги снежинками и цепями. У Карташевых была елка "съедобная" - на ней висели конфеты, мандарины, яблоки - все это поедалось постепенно.
Купленных игрушек было мало. Зато серпантина и конфетти - в изобилии. Вся площадка под потолком и елка были увешаны спиральными лентами, а пол усыпан цветными кружочками, которые в течение вечера несколько раз неожиданно обрушивались на головы и плечи танцующих. А вот новогодним "блеском" из пакетика каждый украшал себя сам, посыпая и волосы и платье перед тем, как идти на вечер. "Блеск" и конфетти с серпантином - это уж непременно на Новый год.
Наверху веселилось среднее поколение и дети. А старички и старушки решили собраться отдельно. И у нас внизу на площадке появились длинные ряды столов, накрытых скатертями, украшенными цветами с комодов. Приносили закуски. Сидели, пели старинные песни, никогда не забывавшиеся "Хаз Булат удалой", "Окрасился месяц багрянцем", "Шумела буря, гром гремел..." Потом танцевали свои танцы. Решили станцевать кадриль, стали вспоминать, как делать "переходы"… Музыкантом был Кузьма Лавриков, отец Надьки, Витьки, Вовки и Руфы. У него не баян, а простая гармонь, но все равно - музыка. Может быть, говорит Люда, это было всего несколько раз, но - запомнилось.
Праздничные столы позже накрывали и в красном уголке - так велико было желание людей собраться, уйти от обыденности, выразить себя в чем-то совсем другом.
Такими были наши будни и праздники. Такая была жизнь...
Т. АНДРИАНОВА.
Журналист.







 13 января
13 января  (
(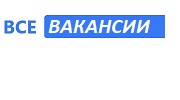
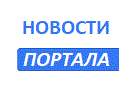

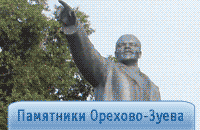

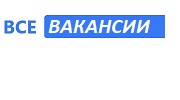




Группы пользователя: Посетители Дата регистрации: 4 марта 2016 23:58
Дата посещения: 11 марта 2016 20:22
Новостей: 0
Комментариев: 1